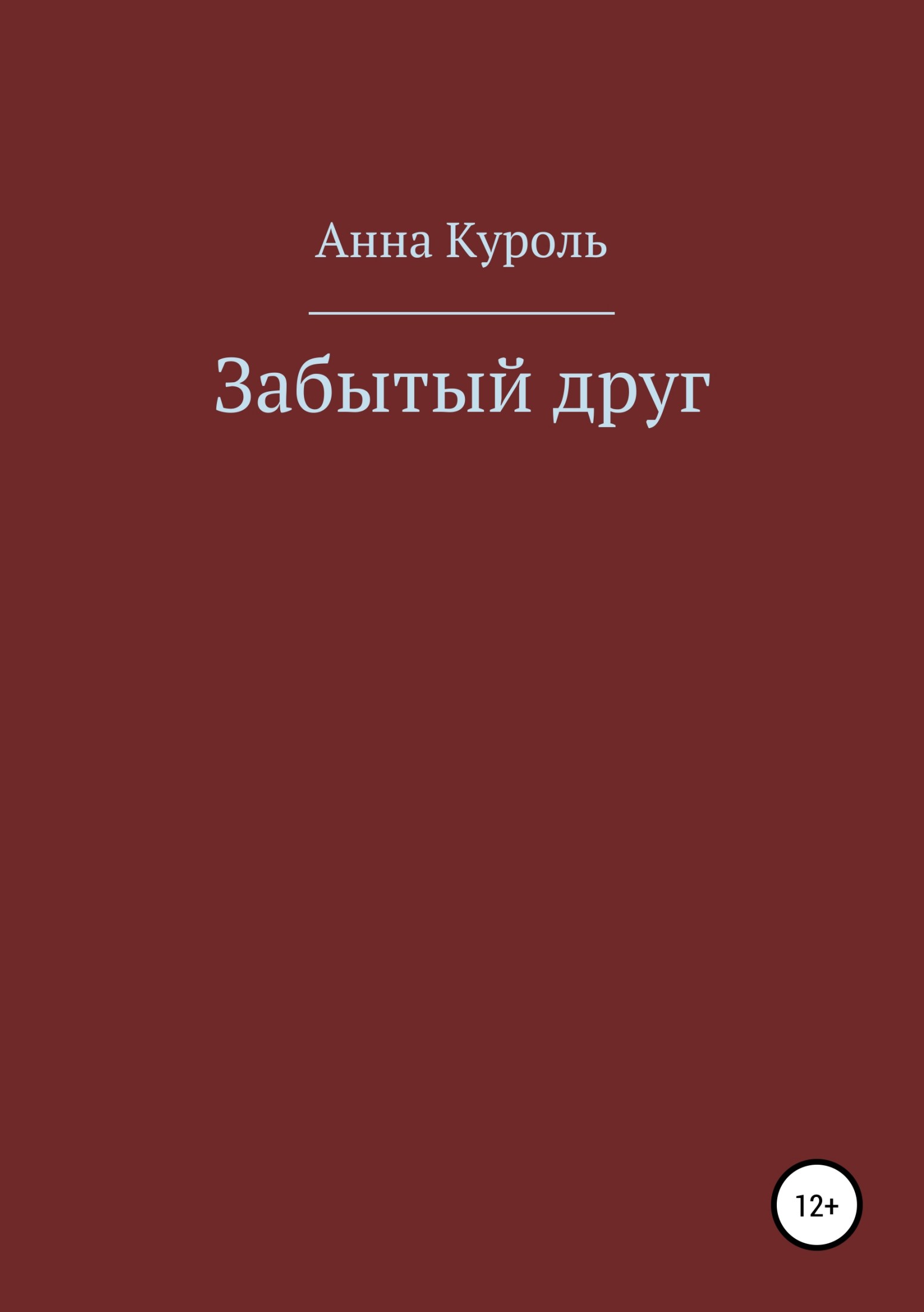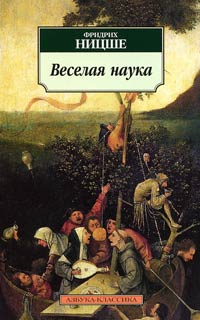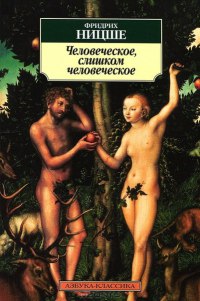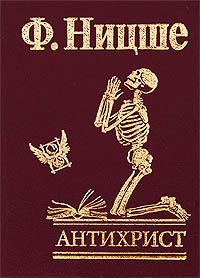ничего.
Они рассмеялись.
А Джей-Пи? — спросила Марейд.
Он-то ничего был, пока не выяснилось, что у них с Ллойдом общая куча торфа.
Ну и чего такого?
Тут его как понесло: не хочу, мол, быть рядом с говорящим по-английски. «Я тут ради ирландского языка, — говорит, — мне нужно полное погружение».
Аты чего?
Швырнул его в море, Марейд. Полное погружение.
Они снова рассмеялись. Марейд налила ему чая.
Нет, правда, что ты сделал?
Пришлось мне развалить кучу напополам. Одна часть для Джей-Пи, другая для сассенаха.
Представляю себе, сказала Марейд. Француз и англичанин поцапались из-за торфа.
Да они уже вон сколько веков из-за торфа цапаются, сказал Франсис.
Да, пожалуй.
Он наклонился к ней, заговорил шепотом.
А тебе б хотелось, Марейд, правда?
Чего хотелось?
Чтоб из-за тебя цапались.
Она отпихнула его.
Нет, Франсис.
Бан И Нил встала.
Ладно, пора еду готовить. Давайте-ка отсюда.
Марейд сняла шарф с головы, закрутила волосы в узел и пошла на задний двор за торфом, причем собирала его очень поспешно, потому что Ллойд и Массон явились тоже и по ту сторону стены кидали пласты торфа в корзины, повернувшись друг к другу задом и спиной, Ллойд действовал шустро, но неуклюже, Массон медленнее, но ловчее, поэтому, когда Ллойд объявил, что закончил, забрал полупустую корзинку и отправился к себе в коттедж, Массон все еще копался в торфе. Ллойд хлопнул дверью, запер ее на засов и крикнул, обращаясь к французу.
Пошел в задницу, сказал он.
Массон прищелкнул языком.
Ouel тес, сказал он.
И продолжил наполнять корзину, отгребая к себе куски, раскиданные вдоль линии раздела, которую Михал провел в пыли каблуком сапога.
Ouel idiot.
Наполнив корзину, он поставил ее у задней двери своего коттеджа и зашагал по забетонированному дворику к пристройке, притулившейся у сортира, нашел там метлу, которой каждый год подметал двор, — щетина вытерлась, дерево измахрилось, верх рукоятки расщепился. Как было, сказал он. Как было всегда. Начал подметать, навел во дворе порядок, как наводил его в начале каждого лета, вымел ошметки торфа, пыль и грязь. Собака устраивается на лежанке, сказал он. Подмел вдоль линии, проведенной Михалом, но не дальше — с каждым движением деление забетонированного двора делалось отчетливее: с одной стороны светло-серый, с другой темно-серый. Выметенный. Невыметен-ный. Чистый. Грязный. Собрал куски торфа, лежавшие поверх разделительной линии, бросил их в свою корзину. Мое, Ллойд, я сюда первым приехал. Весь двор мой. Всегда был моим. Да и чтоб тебя, в любом случае. За то, что приехал. Вторгся. И тебя тоже, Михал. За то, что не предупредил. Взял мои деньги, больше, чем в прошлом году, и не сказал, что он здесь. Англичанин. В это мое последнее лето. Не должно его здесь быть, на этом острове, в этом дворе, это мое место, мое убежище, ще я сижу в одиночестве на закате дня, скрывшись за белеными стенами от всего острова, от островных, и солнце падает на закрытые веки, и я анатомирую, что услышал за день, анализирую фразы и огласовки, интонации и заимствования, выискиваю влияния английского, следы этого чужого языка, что прокрадывается на остров, в дома, в гортань, в речь островных, выслеживаю короткие синтагмы, которые свидетельствуют о переменах, возвещают начало конца ирландского на острове, эти мысли, эти открытия, заостренные и защищенные малостью и тишиной этого двора, и только птицы слышат мое бормотание, как оно было в обнесенном деревянным забором дворике бабушкиного дома, на краю деревни вдали от городка, а от города еще дальше, где я сидел один за круглым чугунным столиком под ивой, птицы надо мной, птицы вокруг, свидетели моего детского бормотания на летней заре, когда родители, тетки, двоюродные все еще спят, а бабушка уже на кухне, напевает и готовит мне горячий шоколад — в движениях ее мягкость и свежесть, которые потом, к завершению дня, заместятся вздорностью и скованностью, но на утренней заре я сидел снаружи, один во дворе, а она помешивала порошок какао в горячем молоке, улыбалась мне с нежностью, когда ставила передо мной сине-белую кружку, продолжала улыбаться, когда возвращалась из кухни с корзиной хлеба, маслом и джемом, с чайной ложкой, ножом, салфеткой, стаканом воды, ставила все это передо мной, ерошила мне волосы, говорила, как рада опять меня видеть, и я ведь надолго, а я, даже тогда сознавая мимолетность нашей близости, целовал ей руку—кожа еще не увядшая, но увядающая, задерживал эту руку, пока она ее не отбирала и не возвращалась в кухню, шлепая туфлями без задников по плиткам пола, которым еще предстоит нагреться на дневном солнце, оставляла меня наедине с птицами. Так же было и здесь. Таким же я был и здесь. Один во дворе — а теперь нет, явился этот англичанин с его английской речью. Массон поднял метлу и жахнул по бетону. Да чтоб тебя, Ллойд. Это мой двор. Я теперь не смогу здесь сидеть, осмыслять в тиши прошедший день, потому что ты рядом, в соседнем доме — шумишь и, хуже того, говоришь по-английски, и чванство твое мне теперь придется включить в свою схему, потому что твое присутствие влияет на выводы, открытия, сводит на нет всю уже проделанную работу, и я зол на тебя, Ллойд, на твое чванство, вторжение, главенство, ты пустил псу под хвост все годы, которые я вел летопись упадка этого языка, промозглые летние месяцы в сыром, заплесневелом коттедже, который я драю и скребу, но чернота неизменно возвращается, пока я сижу за кухонным столом, высматривая крошечные сдвиги в этом древнем умирающем языке, отслеживая мелкие, но значимые перемены отлета к лету, чтобы доказать постепенное включение английского в ирландский, медленный, но очевидный сдвиг к двуязычию, а в конце концов, подозреваю, к моноязычию, но медленный, — ты слышишь меня, Ллойд? Эволюция языка, которая происходила очень неспешно, пока ты сюда не явился и не уничтожил всю мою работу, потому что сдвиг к английскому станет теперь моментальным и бурным, скорее по схеме языковой истории ирландских городов и их окрестностей, а не в духе далекого острова. Ирландский здесь существовал едва ли не в чистой форме, Ллойд, подпорченный разве что изучением английского в школе, периодическими приездами эмигрантов из Бостона и Лондона с этой их избалованностью и инакостью, и деятельностью языковых наемников-посредников вроде Михала, которому главное — коммуникация, вне зависимости от того, какие он использует средства и требуется ли языку защита — пока в один прекрасный день до него не дойдет, что утрата ирландского