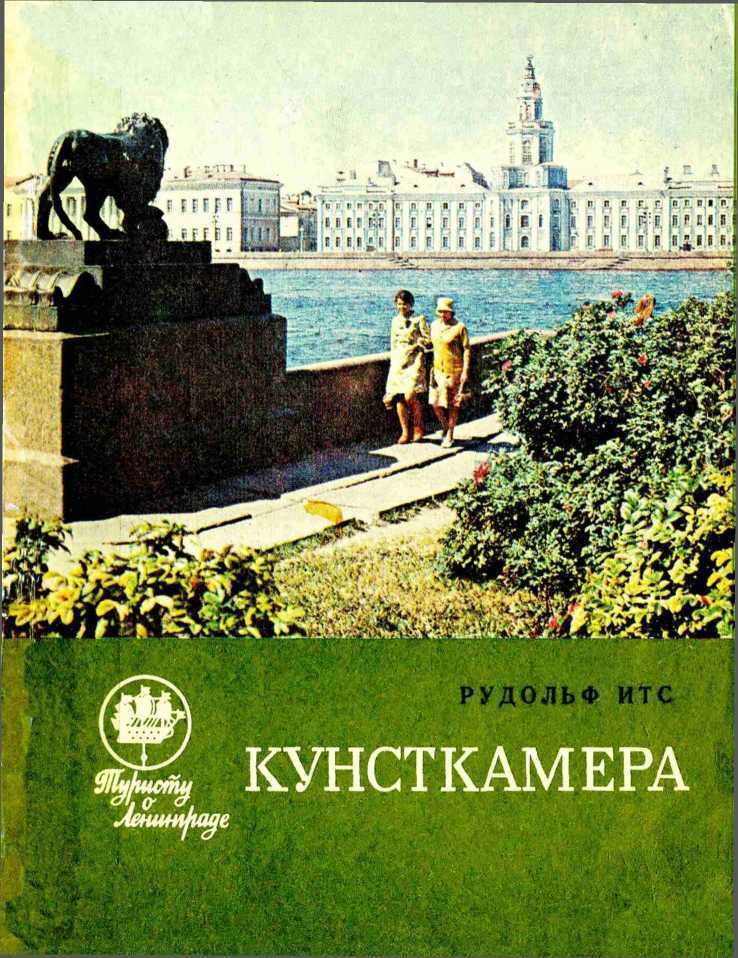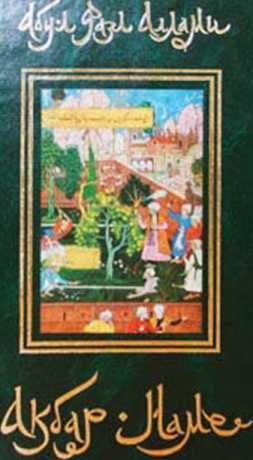острослов; умный, беспечный, общительный русский космополит; человек, сведущий во всем и ни в чём особенно; как тогда говорили, “произведение сложившихся обстоятельств”. “Он ласков, но имеет вид удивительно важный и совершенно министерский, – сообщает Батюшков тётке. – Из разговора видно, что читал много и много помнит”. Головкин может быть интересен Константину Николаевичу по разным причинам. Во-первых, как автор литературных размышлений о нравственном состоянии Франции (и писем о Швейцарии – там и там Головкин живал подолгу) – или как автор мемуаров о царствовании Павла. Возможно, Батюшкова привлекает космополитизм графа, ведь ему тоже предстоит долгая жизнь за границей; а может быть, интерес чисто практический, ведь на закате царствования Екатерины Фёдор Гаврилович возглавлял в Неаполе дипломатическую миссию, к которой теперь приписан и Батюшков. Константин Николаевич наверняка слышал анекдоты о пребывании Головкина в должности. Например, о бессмысленных депешах о передвижении английского судна, которые граф слал в столицу за неимением других событий. Или о его докладе Остерману, который начинался и вообще замечательно: “Ваше Сиятельство, на сей раз я принужден ограничиться признанием знаменитого Монтеня: «Я знаю, что я ничего не знаю». Есть много заграничных новостей, но Ваше Сиятельство узнаете о них лучше другими путями, а из Неаполя я только могу засвидетельствовать Вам своё почтение…” Само собой, долго подобное положение вещей не могло продолжаться, и Головкин был вскоре отозван – за колкости, которые позволял себе в адрес неаполитанской королевской фамилии.
Вторым и важным визитом в Вене был визит Батюшкова к графу Иоанну Каподистрии – управляющему Коллегией иностранных дел России. Благодаря именно этому человеку поэт был приписан к миссии. Каподистрия принимает Батюшкова, по собственным словам, comme une ancienne connaissance, как старого знакомца. Неудивительно, ведь Тургенев столько хлопотал перед ним за Константина Николаевича, что кажется, они давно знакомы. “Из речей его я заметил, что Карамзины ему говорили обо мне с желанием быть мне полезными”, – сообщает Батюшков и добавляет, что ему “…весело смотреть на человека, которому я без малейшей заслуги с моей стороны столько обязан”. Запомним это его “веселье”… Карамзины – другое дело. За то время, что Батюшков прожил под одной с ними крышей (в Петербурге у Муравьёвой), они узнали его совсем близко, и полюбили как родного, и даже способствовали, как видим, делу, “…что очень мне приятно”.
2.
Через восемь лет граф Каподистрия станет первым правителем независимой Греции и погибнет от пули заговорщиков, которая в куски разорвёт его череп. Через двести без малого лет на Греческой площади Петербурга ему будет открыт памятник. А Батюшков пока жив и здоров и едет в Рим навстречу совсем другим памятникам. То, какой он нашёл Венецию, через которую лежал путь – мы не знаем. О “римских каникулах” Батюшкова нам тоже немного известно. Впрочем, по письмам Оленину и друзьям, и письмам пенсионеров Щедрина и Гальберга, а также по воспоминаниям других художников, иностранных – мы можем, по крайней мере, представить жизнь, которая окружала поэта в Риме.
Из-за болезни Батюшков останется здесь до марта. Поселяется он, скорее всего, поблизости от художников, а может, и в одном с ними квартале – ради компании и общения, потребность в котором он болезненно остро испытывает; во всяком случае, он часто в том районе бывает. По совету Кипренского новоприбывшие пенсионеры снимают жильё, где художники победнее часто селились; одна из улиц с тех пор так и называется dei Artisti. Если подняться по Испанской лестнице и взять направо по via Sistina – она выведет на площадь Barberini со знаменитым фонтаном Тритона. Мимо него нужно взять налево, где ныне проложена воспетая Феллини via Veneto, а там вверх по улице рукой подать и до Святого Исидора (где жил Кипренский) – и до соседней via della Purificazione, где остановились новоприбывшие.
Всё это были кварталы, так или иначе окружавшие площадь Испании – как, например, другой квартал художников Il Tridente (“трезубец”) – меж трёх улиц, веером расходящихся от Piazza del Popolo. Здесь работали художники познаменитее и побогаче русских. По обычаю того времени в один из дней мастерские открывались для любопытствующих, ведь среди них могли быть заказчики. Так, прямо с улицы, турист попадал “за кулисы” практически к любому живописцу, и даже к знаменитым академистам вроде Кановы или Торвальдсена. Только немцы из братства Святого Луки, или “назорейцы”, живут в Риме отшельниками.
Для Батюшкова, человека с острым взглядом и развитым вкусом к живописи – Рим художественных мастерских, Рим искусства ошеломителен и нов. Такого разнообразия ни в Париже, ни в Лондоне он не видел. Как выглядели мастерские? Можно представить по картине Жана Ало, которая называется “Мастерская Энгра в Риме”. Академист и французский пенсионер, Доминик Энгр изображён в анфиладе небольших комнат с окнами под потолок. Дальняя поделена перегородкой, за ней, собственно, и работает художник: видны столы с красками, гипсовые розетки. Повсюду на стенах картины, эскизы. Сам художник сидит в комнате, в руках у него скрипка. Он только что закончил играть и смотрит на Мадлен, которая стоит у проёма справа и вся ещё во власти музыки. Скрипка – увлечение Энгра, его страсть. Во французском языке даже появится идиома violon d’Ingres (скрипка Энгра), что означает “вторая натура”. А Мадлен – его жена, с которой он и рисовал большинство своих одалисок. Картина безмятежная, если бы не признание самого Энгра, что годы в Риме были для него годами рабства. Что и понятно, ведь Энгр считал себя историческим живописцем, а зарабатывать приходилось портретами. Туристы любили заказывать моментальные графические изображения, часто групповые. Они стоили недорого и служили прекрасным воспоминанием о путешествии. Художник выполнял такой портрет за один сеанс острым грифелем. Портреты были “контурными” и почти лишены штриховки. Жанр этот практически исчезнет с изобретением фотографии.
Имена Кановы, Торвальдсена, Энгра, Камуччини и других художников в год приезда Батюшкова гремят, и многим приезжающим любопытно увидеть их за работой. Рим того времени и вообще огромная ярмарка предметов искусства, где “антики” продаются одновременно с новыми художествами, которые, впрочем, заимствуют из той же области. Историческая живопись в Риме царствует. Сюжеты из античной мифологии и Библии – оживают на огромных постановочных полотнах. Усилием воображения художник визуализирует то, что никто не видел. Он выражает назидательный пафос легенды – в пластических формах, разработанных Античностью и Возрождением. Формы эти утверждены в стенах европейских Академий художеств. Реальный пейзаж в каноне академизма сам по себе ничего не значит, о бытовых сценах и говорить нечего: искусство, которое работает с живой жизнью, для академиста находится на низшей ступени.
Царствует на