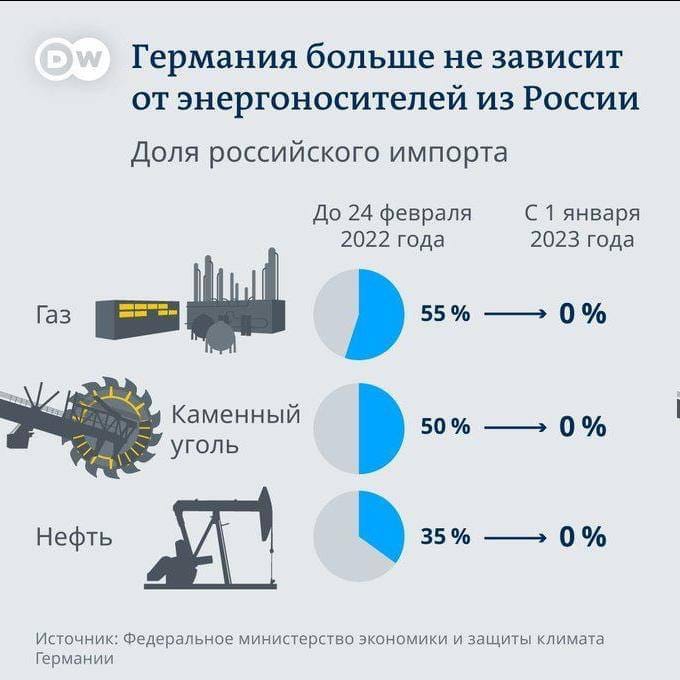Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 159
установка», чтобы утром печей не топить и всем поголовно выйти косить. Председатель колхоза, счетовод и бригадир ходили по деревне с бадьей и заливали водой печи у колхозников, которые всё же затопили, чтобы приготовить себе завтрак. Это что-то вроде кошмарной фантазии из Салтыкова-Щедрина, а Белов говорит об этом, как о некой забавной детали: одна баба не выдержала и сама с ног до головы окатила водой бригадира. Вот смеху-то!
Можаев тоже между прочим, как о чем-то заурядном, говорит о том, что председатель запретил колхозникам за свои собственные деньги сдавать свои деляны лугов для выкашивания неугодному председателю мужику. И никто из крестьян даже не подумал ослушаться, даже в голову никому (в том числе и автору) не приходит, что не может быть у председателя такого права запрещать. В другом месте Можаев столь же прозаически и монотонно, наряду с другими деталями, сообщает нам, что крестьянам запрещено на собственных ручных ткацких станах ткать для самих себя холстины. То, что не возбранялось им веками, даже при крепостном праве, оказалось опасным и запретным при социализме. Но писатель и не думает углубляться в эти дебри. Так вот и задумываешься: а может быть, описательство их – не следствие несвободы, скованности цензурой, а просто узость кругозора и неспособность подняться до уровня большой литературы?
Но даже если оставить в стороне все серьезные социальные проблемы и боли России, а посмотреть просто на ту тональность, в какой дается российская жизнь промежуточными бытописателями, то увидим, что и описательства эти не реалистичны. Быт приукрашивается, кошмар и абсурдность советской повседневности затушевываются. И не только городской, где слишком лезут наружу все болячки системы, но даже и деревенской. Современная русская деревня у писателей-деревенщиков – стилизованная, мужики – идеализированы. Ведь самым страшным в современной советской жизни является, пожалуй, не политический гнет, не материальная нужда и даже не общеобязательная идеологическая ложь, отупляющая умы, – всё это быстро исчезнет, едва лишь режим падет.
Гораздо страшнее одичание народа, его моральное вырождение, оскудение душ, измельчание характеров, утрата корней. От этого излечиться не так просто. Кто жил в сегодняшней русской деревне, не мог не вынести оттуда тягостного впечатления. Повальное пьянство, зверские драки с частыми убийствами, бессовестность, мелкая корыстность, враждебность и подозрительность в отношении к незнакомым людям и как наглядное проявление распада – мерзкое сквернословие, ставшее нормой языкового общения, даже в разговоре официальных представителей власти, даже среди женщин и в присутствии детей. Сам физический облик русского человека изменился, исчезли былые добродушные, открытые, бесхитростные лица (об этом хорошо у Солженицына в «Августе» и у Битова в «Пушкинском доме»).
Эту гнетущую, болезненную атмосферу советской деревни сумел передать Солженицын в своем тоже подцензурном «Матренином дворе». Там сохранено реальное соотношение света и тьмы, праведников и неправедных. У деревенщиков же сплошь праведники или полуправедники. Это, вероятно, вызвано понятным стремлением спасти остатки русской нации, разыскать среди дебрей советского безобразия уцелевшую еще все-таки русскую душу. Но нужно не столько умиляться этим чудом уцелевшим святым огонькам в ночи бездуховности, сколько бить тревогу и указывать на опасность. В беспощадной бунинской «Деревне» и в чеховских «Мужиках» чувствуется гораздо больше заботы о судьбе русской нации, нежели в оперных мужиках Некрасова.
Характерно также то, что вину за падение нравов деревенщики возлагают не на антидуховный режим, систематически оболванивающий людей и воспитывающий роботов, а просто на разлагающее влияние городской цивилизации. (Замечу в скобках, что такой взгляд мне представлялся в значительной мере справедливым, пока я не побывал в деревнях Западной Европы.)
Интеллигенты у деревенщиков всегда изображены с иронией. Подлинным носителем национального духа может быть лишь человек из простонародья, неиспорченный, то есть примитивный, живущий инстинктивной жизнью. Невежество и отсталость – необходимые условия чистоты. Право называться народом признается лишь за деревенскими жителями. Но ведь умиляться перед «народом» значит уже отделять себя от него, ведь нельзя же умиляться перед самим собой. И умиления эти адресованы читающим книги интеллигентам (мужики книг не читают) в уверенности, что эти интеллигенты способны воспринять национальные идеалы и загореться любовью к родине. Во всем этом есть, с одной стороны, запоздалые отголоски наивного руссоизма. Инстинктивная нравственность неиспорченного, естественного человека ставится выше сознательной нравственности разумного существа. А ведь давно уже доказана несостоятельность сказок о том, что натуральный человек – добр, а цивилизованный – зол. Естественный человек – это зверь, злое животное. Никакой натуральной нравственности не существует. Нравственность есть продукт культуры и, в частности, у русского мужика – культуры христианской. Замена этой культуры советским вакуумом (ибо нельзя же назвать культурой набор лозунгов и пропаганду) и приводит к ужасу оскотинения.
А с другой стороны, во всем этом опять всё та же наша старая российская болезнь – архаичное народничество. Всё еще живо то, что Бердяев назвал толстовским духом русской революции. Презрение к интеллекту со всем его блеском, презрение к личности с ее исключительностью, преклонение перед массой («народом»), перед ее нивелирующей стихией. Всё это уже принесло столько бед России и привело к тому, что само слово «интеллигент» стало ругательством, и к тому, что великой нашей державой правят безграмотные Хрущевы и Брежневы.
Невозможно игнорировать тот факт, что пробуждение национального сознания и первые признаки национального возрождения сегодня наблюдаются в среде интеллигенции, а не в деревнях. И носительницей духовного (христианского) возрождения сегодня является наша замечательная новая интеллигентная молодежь, а вовсе не мужики. Именно поэтому такими искусственными, при всех их художественных достоинствах, представляются романы Распутина. Есть какой-то наивный утопизм в этом упорном желании представить деревню как чистый заповедник веры и традиции, откуда придет обновление и спасение России, и в столь же упорном нежелании видеть подлинное духовное обновление и христианский ренессанс в нашей культурной среде, откуда скорее всего и придет (и уже идет) оздоровление страны.
Не отсюда ли и безысходный трагизм книг Распутина? Не оттого ли, что он в глубине души понимает утопичность своих надежд, видит вырождение деревни и не верит в силу культурной элиты, в ее способность изменить жизнь всего народа? И ведь не случайно такое ностальгическое христианство Распутина, наивно-фольклорное, смогло пробиться в советскую печать, а тревожно-ищущее, морально напряженное христианство Солженицына, Максимова и теперь позднего Аксенова оказалось опасным и неприемлемым для режима.
Вот тут мы и подошли вплотную к вопросу, что приемлемо, а что нет, почему промежуточных печатают, как получилось, что писатели, которые еще несколько лет назад слыли бунтарями, сегодня стали оплотом режима и те, для кого еще несколько лет назад граница была закрыта на замок, сегодня вдруг стали разъезжать по заграницам в качестве
Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 159