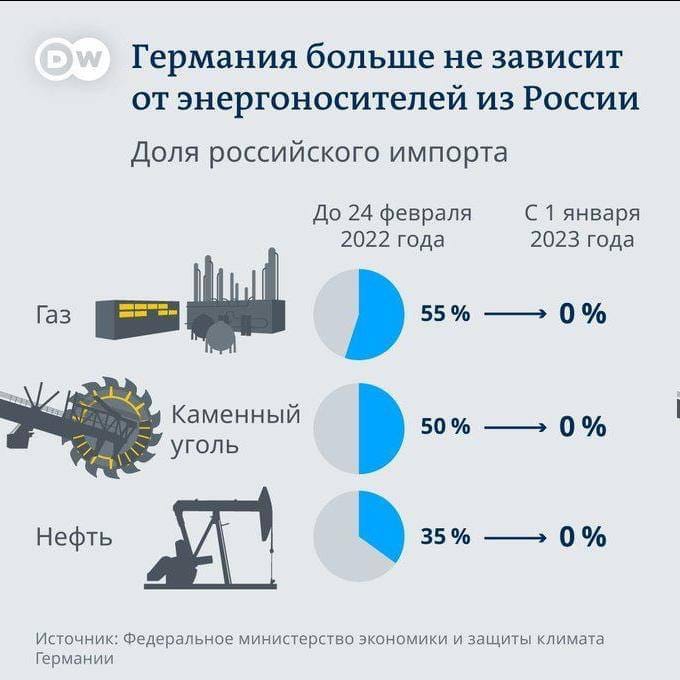Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 159
бывают шумными, ибо они вовсе не назначают председателя, назначают наверху, а собрание – это скучная формальность, комедийная процедура. И когда, наконец, Шукшин решает написать «смелую» социальную сатиру с аллегориями и намеками («До третьих петухов»), получается нечто на уровне студенческого капустника. Нет, уж пусть лучше они остаются, эти промежуточные, в избяных светелках да на пахучих заливных лугах и не лезут в следовательские кабинеты и на выборные собрания.
Вот теперь почувствовали деревенщики, что невозможно им писать о русском крестьянстве и умолчать о роковом, переломном – о коллективизации. И Можаев пишет роман «Мужики и бабы», а Белов – «Кануны, хронику конца 20-х годов». Оба (особенно Белов) дают довольно интересные детали жизни русской доколхозной деревни. Но этим описательством, не затрагивающим сути вещей, опять-таки всё и исчерпывается. Не смогли они – не сумели или не посмели – раскрыть смысл великой катастрофы. В коротеньком и архизапрещенном рассказе Бабеля (леденящем душу, как знаменитые, пока еще непревзойденные страницы гроссмановского «Все течет…») больше раскрывается ее страшная суть, нежели в этих длинных романах. Оба они: и Белов, и Можаев – недвусмысленно осуждают коллективизацию, но даже ортодоксальная Сейфулина, которая была отнюдь не против коллективизации, гораздо сильнее ярче в свое время по свежей памяти запечатлела черты трагедии. А с пятидесятилетней-то высоты обзор куда как шире, и можно было бы ожидать чего-то более значительного.
Залыгин, не претендовавший в своей повести («На Иртыше») на широту охвата и глубину анализа, сумел всё же сказать гораздо больше. В этих своих исторических романах, казалось бы, и написанных для того, чтобы раскрыть нам смысл русской истории, Белов и Можаев, как и в повестях, более погружены в гумус, нежели в социум. Двадцатые годы ими идеализируются, а коллективизация изображается как нелепая выдумка мерзавца Сталина, которую подхватили бессовестные карьеристы и «перегибщики». Белов даже исключает из партии (за неуплату членских взносов) своего героя, Игнатия Сопронова, прежде чем поручить ему грязное дело насильственной коллективизации. И это, чтобы услужливо объявить: «Откуда им (крестьянам) было знать, что никто в Ольховской ячейке не считал Игнаху членом партии. И что партия тут ни при чем». Известная песенка. Партия всегда ни при чем. Массовый террор совершается в стране, а правящая партия ни при чем, миллионы крестьян уничтожаются, страна ввергается в пучину голода, а партия ни при чем. На каких кретинов рассчитана эта демагогия?
Белов даже идет дальше, он пытается представить коллективизацию (особенно в последней сцене романа) как извечную, всегда и везде идущую борьбу между разными психическими и физиологическими типами людей. Двадцатые годы вовсе не были чудесным идиллическим временем, внезапно оборванным грянувшей, как гром среди ясного неба, коллективизацией. В двадцатые годы совершалось и завершилось построение тоталитарного идеократического государства. После уничтожения политических и гражданских свобод, профсоюзов и церкви, после высылки за границу цвета русской интеллигенции и создания концлагерей для инакомыслящих, коллективизация была закономерным и необходимейшим шагом. И не только потому, что независимый от государства крестьянин не вписывался в коллективистскую централизованную и тоталитарную систему, но также и потому, что связанный с землей, с национальной традицией и религией крестьянин был опасен идеократии. Ей нужен был лишенный корней, обезличенный и оболваненный homo soveticus, над созданием которого она успешно трудилась, и вольный крестьянин ей был не менее ненавистен, чем самостоятельно мыслящий интеллигент.
Коллективизация – не только экономическое мероприятие. Это – страшное по своим последствиям обрубание духовных корней, уничтожение источников иной, не коммунистической культуры, морали, оглушение народного сознания. Это замена личного начала и личной свободы началом коллективистским. Настоящий русский роман о коллективизации еще должен быть написан. Не может уже русский читатель удовлетвориться отдельными там и сям разбросанными намеками, смелыми фразами, вложенными в уста отрицательных персонажей, опасными утверждениями, сразу же нейтрализуемыми верноподданническими оговорками и т. п. Полноценное литературное произведение не складывается из отдельных удачных деталей, вкрапленных там и сям в аморфное или даже инородное тело. Литературное произведение – это целостный организм с собственным пульсом и дыханием. Этот организм либо есть – живет и дышит, либо его просто нет. Третьего тут не дано. Никакие самые изощренные гальванопроцедуры не могут оживить труп.
В будущем – если предположить, что будущий читатель захочет читать их, – все эти «промежуточные» книги придется снабдить длинными примечаниями, быть может, более длинными, нежели сами книги, с разъяснениями, что, мол, здесь писатель имел в виду то-то и намекает на то-то, здесь он говорит это, но на самом деле было вовсе не это, а другое, но он не мог этого сказать потому-то и т. д. И примечания эти будут, пожалуй, намного интереснее самих книг.
Многие западные «прогрессивные» критики утверждают, что эти подцензурные советские писатели в отличие от писателей-диссидентов не отвергают глобально советской системы, а ищут разрешения проблем советского общества в рамках самой советской системы, и поэтому их печатают, а диссидентов не печатают и преследуют. Первые остаются социалистами и марксистами, а вторые – антимарксисты и антисоциалисты, и в этом вся разница. Такие утверждения были бы правдоподобны, если бы советские подцензурные писатели поднимали те же самые проблемы, что и диссиденты, но давали бы на эти вопросы иные, нежели диссиденты, ответы. На самом же деле, промежуточные писатели просто-напросто обходят стороной эти проблемы, ускользают от них. Кто действительно убежден в своей правоте, тот не уходит от дискуссии, а напротив, ищет любого случая, чтобы высказать свою точку зрения, обосновать ее как можно убедительнее, попытаться убедить других в своей правоте.
Замалчивание же самых страшных язв советского общества и самых драматичных его конфликтов говорит о том, что ни у этих писателей, ни у власти, которая дает разрешение на публикацию их книг, нет убедительных ответов на вопросы, поднимаемые диссидентами; и поэтому затрагивать их, эти вопросы, опасно. Остается только одно: молчать и запрещать. Говорить о страшнейших пороках советского общества нельзя, ибо они не преодолимы в рамках советской системы, а являют собой ее закономерное порождение.
Впрочем, иногда возникает даже сомнение: понимают ли на самом деле эти промежуточные писатели до конца весь трагизм русской ситуации и весь ужас ее. В их книгах иногда проскальзывают детали, раскрывающие нам такую бездну приниженности и бесправия народного, что содрогаешься от негодования. Но детали эти даются этими писателями как-то бессознательно, как нечто нормальное и само собой разумеющееся, регистрируемое просто автоматически наряду с другими деталями бытия, без малейшего намерения вызвать негодование читателя, ибо и сами авторы никакого негодования не испытывают.
Белов, например, спокойно, между прочим, сообщает, что в селе был объявлен «добровольный» бесплатный воскресник и «пришла
Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 159