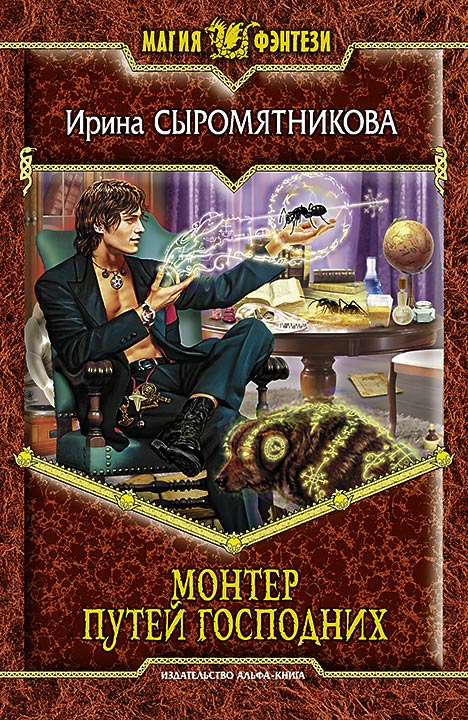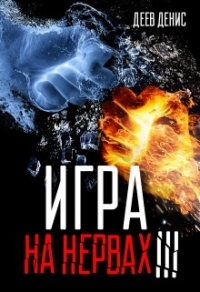общем, я понял только так, что допрашивать вас запретили сверху. Непосредственное начальство. И с учетом того, что вы не просто свидетели, а действующие лица всего этого… никто не приходится родственником королям, а?
Морковка начинает коситься на меня (показываю кулак). Бормочет под нос: «Наверное, скорее нет». Откладывает эту газету и берёт следующую. Перелистывает и выдаёт с небрежностью, от которой за милю несёт принуждением:
— Здесь тоже половина страниц — о новом Энкерском Чуде. Всё больше домыслы и слухи — вроде стай фениксов. Или алапардов, которые растворились в пламени.
— О, сладенький, — подхватывает его напев Конфетка. — Об этом будут говорить ещё много лун, и с каждой луной воспоминания станут всё чудеснее. А тайна всё удивительнее, не так ли? Кто он такой, этот незнакомец, и зачем скрывался, и почему пришёл на помощь именно в такой момент…
— Потому что он хотел доказать.
Голос Грызи раздаётся как-то внезапно. Я уж и успела привыкнуть за девятницу с лишним, что она всё молчит да молчит. Сколько её помню, она вечно носилась с этим Ребёнком Энкера и его исчезновением. Так что теперь, когда она его встретила таким вот образом, ей точно есть, что обдумать.
— Что хотел доказать, золотенькая?
— Что они не чудовища. Что мир возможен. Что гармония может быть, — голос у Грызи приглушённый, а глаза уходят в ту самую серебристо-синюю даль. Где в огненном ареоле тает темная фигура. — Как и Петэйр, он ждал нужного момента, чтобы дать знак всем — на будущее.
— Новое Чудо Энкера? — фыркаю и киваю на газеты. Грызи качает головой.
— Он не хотел сотворить новое Чудо Энкера. Хотел перечеркнуть старое. Предыдущий раз всё кончилось смертью. Людей и алапардов. А он хотел показать, что это… не обязательно должно кончаться так. Что этого можно избежать. Мощнейший варг, настоящий Пастырь…
— Но это же был один и тот же человек? — переспрашивает Рыцарь Морковка. — Это был тот самый… Дитя Энкера?
Но Гриз опять молчит, а взгляд уходит уже не в даль — куда-то в себя. Как молчат не от незнания, а от знания. Или от догадки, с которой не знаешь, что делать.
И от этого молчания на меня веет холодом. Подступающей зимой.
Будто впереди у нас — сплошная Луна Мастера. С внезапными чудесами пополам.
АЛОЕ НА БЕЛОМ. Ч. 1
«Некоторые прогрессисты считают, что варги прокляты.
Отлучены от Камня из-за родового проклятия на крови.
Этим и объясняется безумие зверей, когда мы льём кровь:
не Дар обнажается, а проклятие выходит наружу.
Бывают дни, когда легко поверить в это. И тяжелее всего
в такие дни — не задавать себе вопросов о том, можешь ли
ты не быть одинок, если проклят и обречён».
Из дневника неизвестного варга
ЛАЙЛ ГРОСКИ
— Интересно бы знать, у старого Тодда найдётся комплект рубашек? В деревенской лавке этого добра не водится.
Близкая зима обостряла у зверушек желание поохотиться на мою тушку. А у шнырка Кусаки случилось обострение ненависти к клеткам, так что он изобрел сорок какой-то способ побега. И был уже на полпути к складу с припасами, когда его сграбастал я. Результат — расцарапанные руки и две прорехи в рубашке с ладонь длиной. Повезло, что струю вонючей жидкости от Кусаки вместо меня получил подбежавший вольерный.
Теперь я латал дыру — привычное до боли занятие для вечера. На постирушки одежду можно и деревенским прачкам сдать. Но сразу не чинить, что порвано — себе дороже: через несколько деньков рубашки заканчиваются, ты приобретаешь лихой и экзотический вид, Мел начинает фыркать, Арделл — спрашивать, не выдать ли мне аванс, а ещё в драных рубашках очень сложно очаровывать черноглазых прелестниц-нойя.
— Иначе придётся отпрашиваться в город, а это будет дней через семь, — продолжил я, с оптимизмом принюхиваясь к ткани. — Эй, у тебя, случайно, нет каких-нибудь планов в Вейгорд-тене?
— Вы все сумасшедшие.
Не совсем то, что ожидаешь услышать во время беседы о рубашках. Но, Боженьки, это же человек, который выбрал объектом своих воздыханий Мел, да еще искренне хочет на ней жениться.
— Целиком с тобой согласен, — я просунул в прореху ладонь и пошевелил пальцами. — Как подумаешь — кого спасаем? Видел этого шнырка? Будь он размером с яприля — он бы пару городов разнес, точно тебе говорю. Понятное дело, есть единороги…
— Не поэтому, — перебил Олкест. Видок у него был малость нездоровый. Бледное лицо и горящие глаза. — Из-за того, как вы… относитесь к ней.
Восемнадцать дней продержался — можно рекордом считать. Парня явственно разбирало уже после их недавней поездки с Арделл в Энкер. А сорвался он, само-то собой, из-за Мел и вчерашней истории с дохлой волчицей, которую Нэйшу пришлось скоропостижно вскрывать. Я зрелища не застал, но вольерные судачили, что Гриз влетела уже практически в потасовку, и гнев её был ужасен.
— Чем она вас околдовала — вас всех? — Олкест вскочил с кровати, причём встал в неосознанную позу оратора, и я понял, что бежать поздно. — Вы… вы будто очарованы ею, влюблены в неё все до единого, Мелони смотрит на неё как на какое-то божество, и Аманда, и Фреза, и ты тоже, и вообще, все в питомнике…
— Насчет всех я бы поспорил, — пробормотал я, припомнив ухмылочки Нэйша и взгляды Уны. — Эй, ты хоть меня-то не записывай в воздыхатели Арделл. Мое сердце, знаешь ли, занято кой-кем другим.
Янист как раз вздумал пробежаться по комнате, будто матрос по палубе корабля. Но на этом месте остановился и взмахнул руками.
— Но ты всё же прислушиваешься к ней. Беспрекословно исполняешь, что она тебе скажет, и считаешь её… как это у нойя? Лучшая из людей? Неужели вы все не видите, что она совсем другая, что… эта невыносимая… что она…
Я сделал пару стежков и опустил иголку — все равно тень от Яниста мельтешила и прыгала по рубашке. Парень расхаживал туда-сюда и толковал о том, какая Арделл невозможная, несносная, резкая, недоговаривающая, грубая, раздражающая, неженственная, неподобающая, нескромная, нарывающаяся-на-что-попало, циничная, возмутительная, бестактная…
Я глотал эпитеты, приоткрыв рот, как птенец феникса, который ожидает кормления.
— Всё это, конечно, отлично, — заговорил, когда Янист малость выдохнул и зарядил финальное «невыносимая». — Но ты бы, знаешь… постарался бы хоть это вот «она» произносить не с большой буквы.
Парень замер так, будто ему в спину всадили сотню стрел. И начал менять оттенки — сперва уши, потом щёки, потом шея…
— Боженьки, — уважительно сказал я, рассматривая малинового соседа по комнате. — Что, сильно стукнуло?
Олкест издал