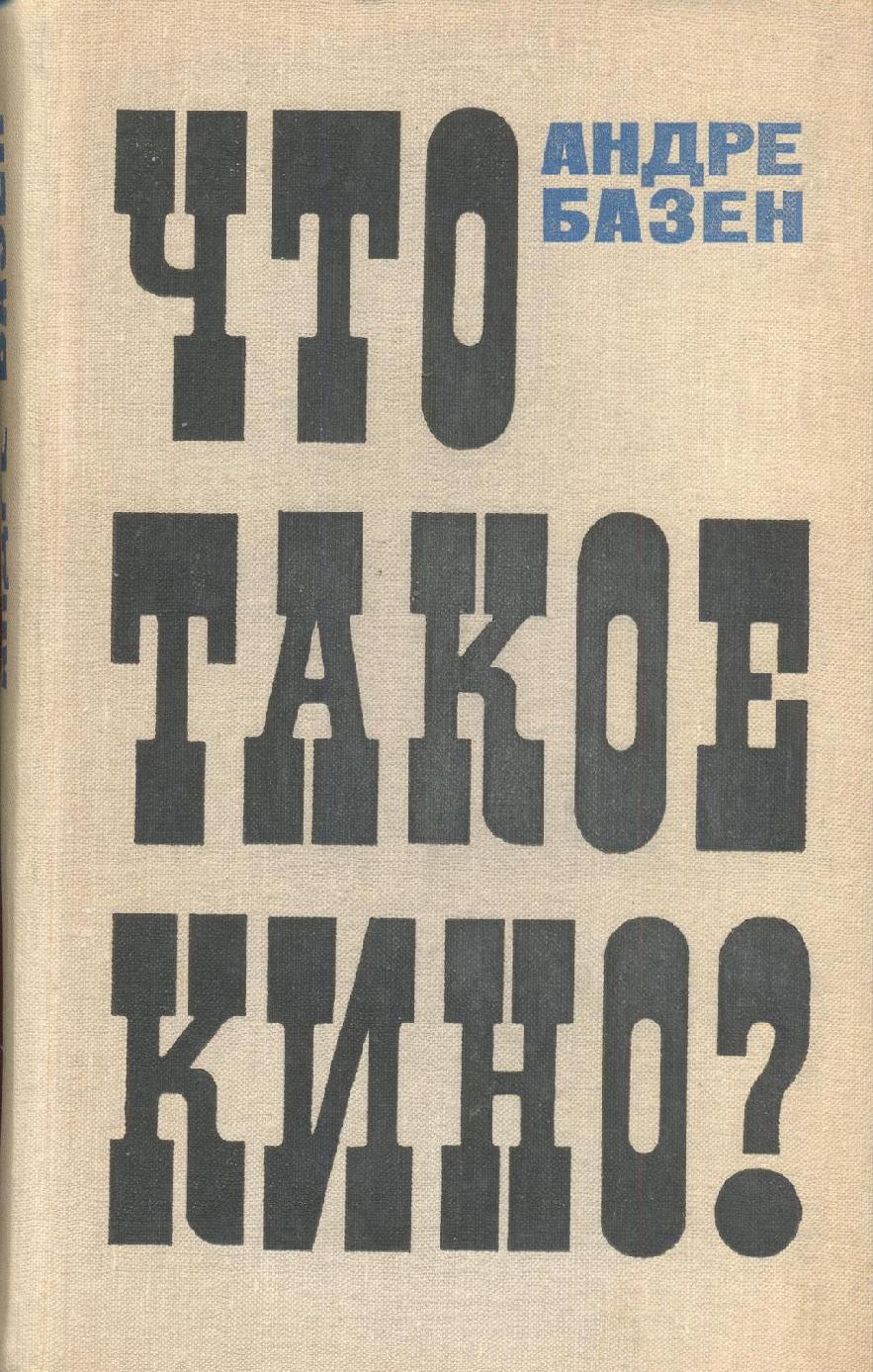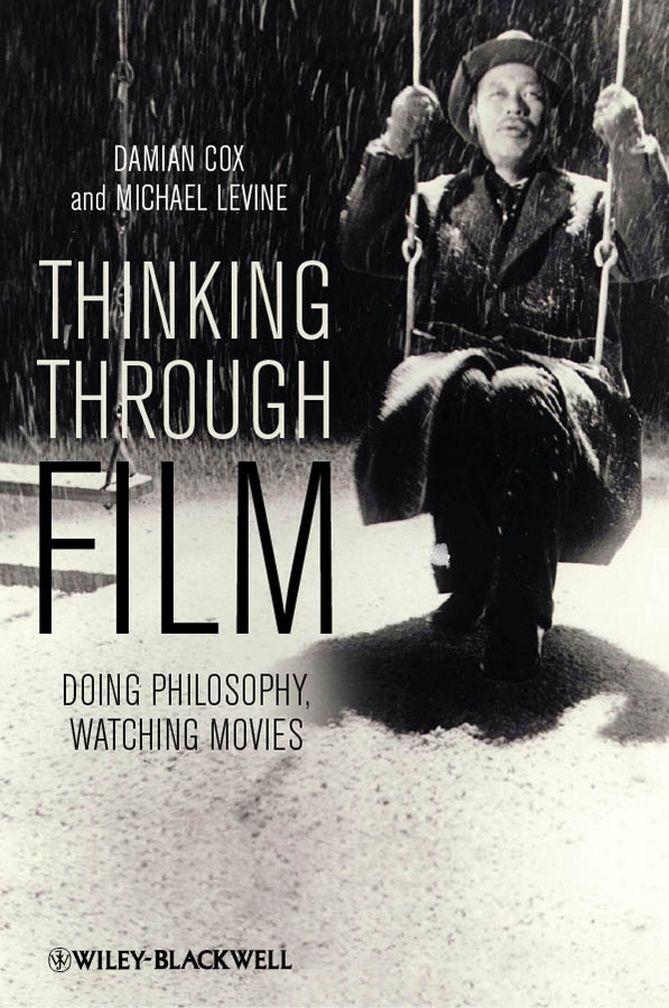наверное, метров двадцать пленки. Мы видим вокруг глаз и рта все черточки, видим, как каждая из них напрягается, ослабевает и медленно изменяется. Долгие минуты мы наблюдаем органическую историю развития чувств – ничего другого. Это своеобычная лирика кино – не что иное, как эпическая поэзия ощущений.
Подобное движение чувств словами не передать. Отдельное слово может означать только четко оконтуренную фазу – так возникает эффект стаккато, образуемый из разрозненных психологических моментов. Слово приходится проговаривать до конца, прежде чем произнести новое. Выводить до конца мину вовсе не обязательно, если назревает другая, мало-помалу ее вытесняющая. В легато последовательного визуального ряда прошедшие эмоции и эмоции будущие еще или уже прочитываются в лице настоящего, являя зрителю не разрозненные состояния души, но таинственный процесс их развития. Благодаря этой эпике ощущений фильм сообщает нам нечто совершенно исключительное.
Созвучие чувств
Мимика по природе своей полифоничнее, чем язык. Последовательность слов сродни последовательности звуков в мелодии. На лице, однако, возможно одновременное, словно в аккорде, проявление самых разных эмоций; во взаимодействии неисчислимых черт рождаются изысканнейшие гармонии и вариации. Это созвучия чувств, суть которых в синхронности. Но словами ее не передать.
Пола Негри играла однажды Кармен. В эпизоде, когда героиня кокетничает со строптивцем Хозе, в ее мимике отражены радость и в то же время подобострастие, а всё оттого, что быть униженной ей нравится. Но когда влюбленный падает к ее ногам, героиня видит, как тот беззащитен и слаб, и лицо ее делается печальным и задумчивым – всё в одной мине, где непохожие эмоции переплелись так сильно, что стали друг от друга неотделимы. Осознавая, что оказалась сильнее, она испытывает болезненное разочарование. Женщина проиграла битву, потому что вышла из нее победительницей. В словах эмоции мельчают. И если ты открываешь рот, то говоришь совсем другое.
А вот сцена смерти, где Хозе вонзает в Кармен кинжал! Девушка, цепляясь за рукав своего убийцы, смотрит на него с необычайной нежностью и тоской. По движениям ее видно – она давно уже не любит. Но прекрасно понимает, почему тот ее заколол. И будто хочет сказать: «Не злись. Все мы рабы любви, несчастные и затравленные. Я погубила тебя, и ты меня убил. Тут некого винить. Теперь мы наконец успокоимся…» Если перевести жесты в слова и фразы, выйдет банальность, в то время как на лице нам явлено неподдельное зрелище, исполненное глубочайших противоречий.
Частота эмоций
В «Водопаде жизни» Лиллиан Гиш играет наивную и доверчивую барышню. Когда ее молодой человек признается, что просто морочил ей голову, она не может поверить. Она знает: всё так и есть, но продолжает надеяться, что это только злая шутка. В последующие пять минут героиня то плачет, то смеется – у нее раз десять сменяется настроение.
Чтобы словами передать бури, отразившиеся на маленьком бледном личике, потребовалось бы много страниц. Чтобы их прочесть, потребовалось бы много времени. Но настоящая суть этих ощущений отражена в сумасшедшем темпе, в котором они сменяются. Секрет воздействия мимической игры в том, что частота выражаемых эмоций один к одному отвечает оригиналу.
Слово не имеет никаких шансов добиться соразмерного по силе эффекта. Ведь описание эмоции порой занимает куда больше времени, чем ее переживание. И ритм, в котором проявляются волнения души, в любой литературной форме неизбежно утрачивается.
Зримые возможности и физиогномическая мораль
В фильме «Всё за деньги» Эмиль Яннингс играет нувориша, спекулянта самого низкого пошиба. Это истинный кровопийца, в каждой гримасе, в каждом движении – душегуб до мозга костей. И всё же! Трудно сказать, почему, но на протяжении всего фильма мы испытываем к бандиту симпатию. Что-то есть в его лице такого, чего нельзя не любить. За грязными гримасами одновременно сокрыто наивное, вечно детское начало – тайная чистота, позволяющая нам почувствовать, что добро возможно. Это лучшее «я» показывается в конце повествования. Мы видели его с первых кадров, всегда под самыми безобразными личинами, – и это тоже одно из чудес полифонической физиогномики.
Хороший киноактер не может застать нас врасплох. Поскольку природа фильма не допускает психологических ремарок, важно, чтобы все душевные волнения отображались на лице актера с самого начала. Наблюдать, как вдруг открывается не замеченная ранее черта, вроде морщинки в уголке губ, как этот зародыш прорастает, преображая всё лицо, и как на наших глазах рождается новый человек, – нет ничего увлекательнее этого. А потому сказанное Хеббелем: «То, что может из вас стать, вы уже есть» имеет в кинематографе хорошие шансы обернуться физиогномической реальностью.
Нравственное значение физиогномики заложено в явно скрытой глубине человеческого образа. Фильм тоже не ограничивается банальным разделением на «хорошее» и «плохое». В поэзии нравственное инкогнито человека можно разоблачить, только приподняв или вовсе сорвав маску. Синхронизм, где добро проступает даже во зле, делает физиогномию умилительной и волнующей. Так из вырезанных на маске глазниц мы иногда ощущаем на себе еще более глубокий взгляд.
Есть много способов создать в фильме напряжение. Вот, к примеру, человек, в каждом поступке которого мы видим отъявленного злодея и грешника. Но лицо его говорит, что такого не может быть. И пока зритель с нетерпением ждет разрешения этого интригующего противоречия, образ героя приобретает особую живительность, присущую всему, что таит загадку.
Драматургичность мимики
В кинематографе мимика является не только поэтическим приемом. Иногда физиогномическая выразительность используется для передачи внешнего драматизма. Впрочем, таких высот современное искусство кино достигает пока еще очень редко. Проиллюстрируем это сразу на примере. В фильме Джо Мая «Трагедия любви» на глазах зрителя разворачивается настоящая мимическая дуэль. Судебный следователь и обвиняемый сидят друг напротив друга. О чем они говорят, нет даже намека. Но очевидно, кривят душой оба, скрывая за притворной личиной истинное лицо. Каждому хочется заглянуть под маску собеседника. Каждый нападает и парирует нападения, используя в качестве оружия гримасу, стремится спровоцировать соперника и вызвать на лице у него выражение, которое бы его выдало (так в словесном поединке мы готовы изгаляться на все лады, лишь бы оппонент проговорился).
Мимическая дуэль наподобие этой во много раз азартнее словесной. Ведь слово можно взять обратно и перетолковать. Оно не сражает так безжалостно-непоправимо, как чужая гримаса.
В фильме подлинно художественный драматизм, возникающий в результате коллизии двух людей, всегда находит разрешение в мимическом диалоге, показанном крупным планом.
Крупный план
Я говорю о физиогномике и мимике, как если бы они относились к фирменным приемам кинематографа и тот обладал на них монополией. Им отведена существенная роль и в театре, но с тем значением, какое отдается мимике на экране, она несравнима. Во-первых, внимая речи, мы не слишком обращаем внимание на физиогномику (не только мы, но также актер) и цепляемся за самое аляповатое, примитивное.