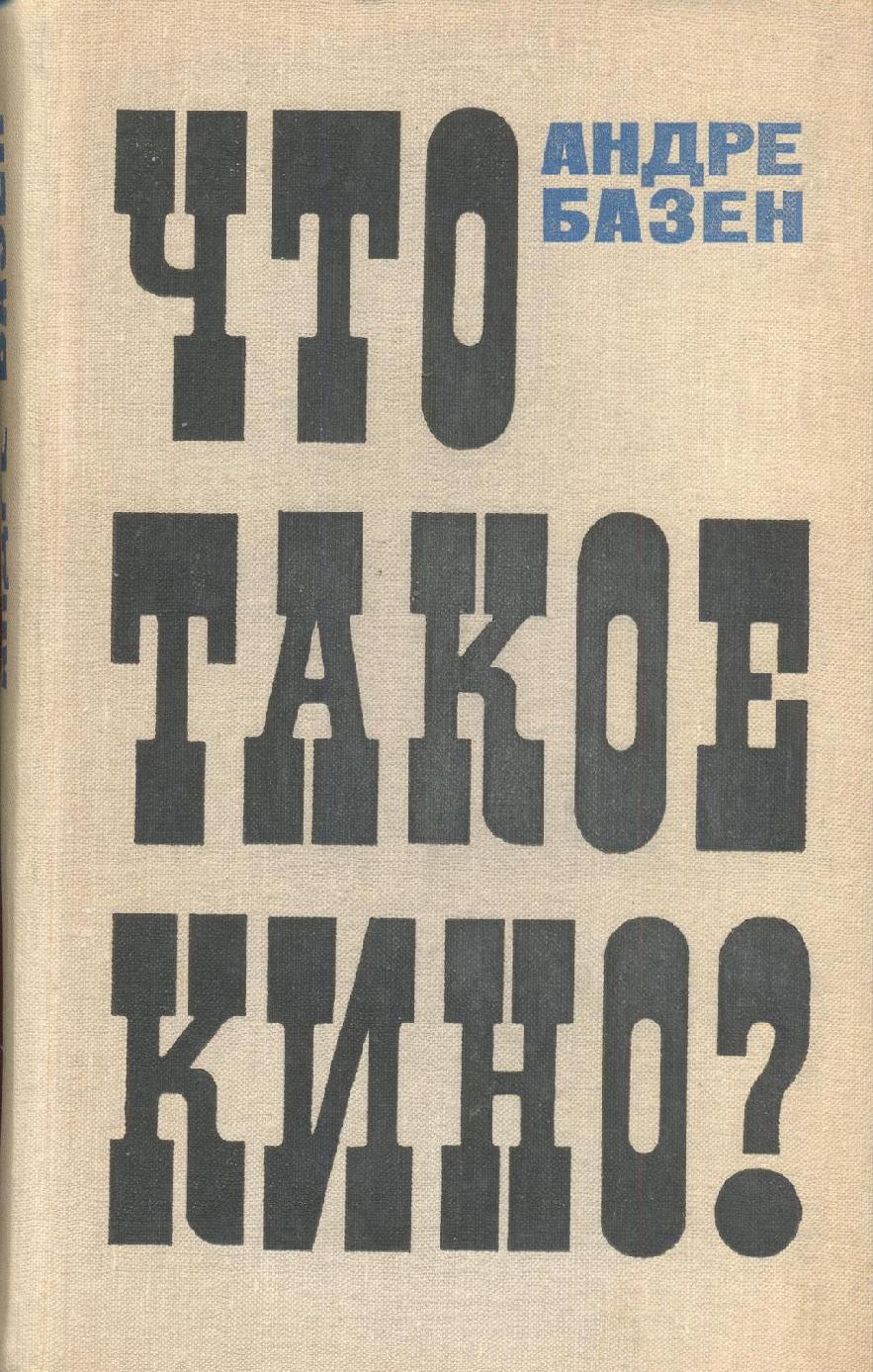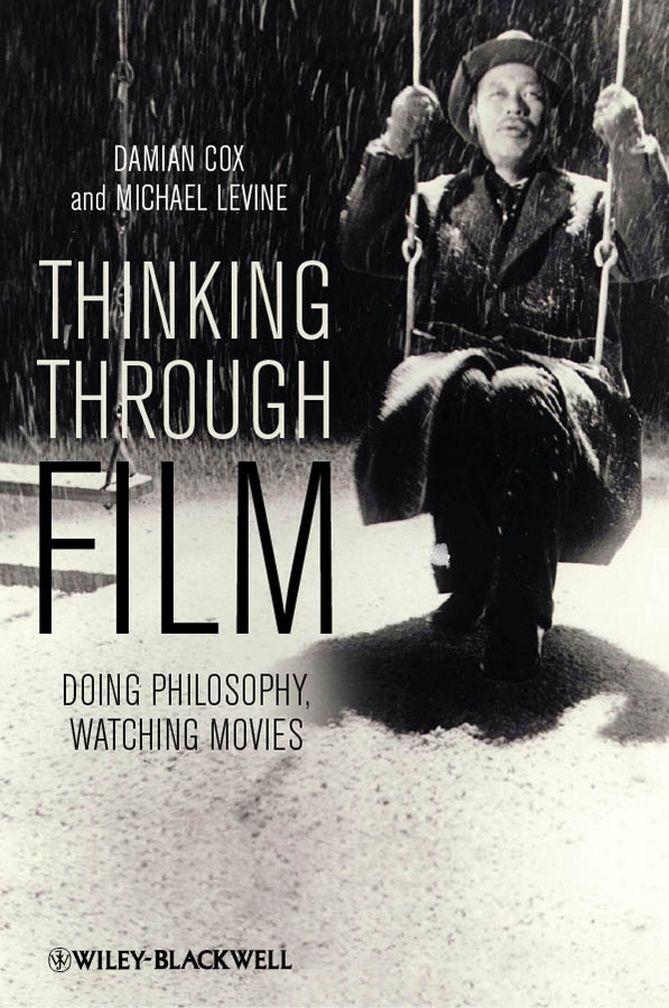физиогномии и в жестах, какие отразимы при помощи кинематографических средств точнее и нагляднее, чем в самых изысканных словах. В этом и заключена миссия кино, которое выходит далеко за рамки искусства и поставляет для антропологии и психологии неоценимый материал.
Другие расы
В свете сказанного выше невероятно интересны фильмы с участием представителей других рас: негров, китайцев, индейцев, эскимосов. Бывает, видно наглядно, какие изменения в лице обусловлены не индивидуальными, а расовыми особенностями. Иные исконные физиогномические черты, более не замечаемые у наших соплеменников, у отдельных племен по-прежнему еще очень живучи и значимы. Самыми странными и зловещими кажутся нам гримасы, ранее никогда не виданные и потому сначала не воспринимаемые.
Незабываемое впечатление произвела на меня мимика одной индейской актрисы: оплакивая свое умершее дитя, она пребывала в безутешном отчаянии, но при этом постоянно улыбалась. Прошло совсем немного времени, и в улыбке наконец-то проступила нескрываемая боль; то был выплеск нерастраченной мимики, поразительный по своей интенсивности, от которой отпало всё традиционное и стереотипное, – больше не знак и не символ боли, а сама боль в ее внезапном и чистом проявлении.
Но самая большая загадка вот в чем: доступна ли вообще пониманию мимика, прежде ни разу не виданная. Нам никогда этого не узнать, как не узнать другие тайны физиогномики, покуда мы пребываем внутри одной физиогномической и мимической системы. Сравнительное языкознание открывает в филологии новые законы, в точности так же при посильном участии кинематографа будет накапливаться материал для сравнительных физиогномических исследований.
Душа и судьба
На человеческом лице запечатлено и то, и другое. В видимом взаимодействии, в попеременной игре черт лица отражается единоборство между типажом и личностью, между полученным по наследству и приобретенным, между фатумом и волей, «я» и «оно». Самые темные тайны самых дальних уголков души явлены здесь как на ладони, и наблюдать за этим так же захватывающе, как за биением сердца во время вивисекции.
И тут образ на экране получает новое измерение – глубину. Ведь при первом впечатлении лицо может показаться совсем другим, чем оно есть на самом деле. Сперва мы видим типаж. Но потом, словно из-под полупрозрачной маски, иногда проступает нечто совсем другое, дотоле сокрытое. Среди представителей благородной расы тоже встречаются не очень лестные примеры, равно как и наоборот. На лице – словно на открытом поле битвы – мы наблюдаем борьбу души с судьбой, изображенную так, как литература изобразить не в силах.
Аналогия и двойник
Провести аналогию – вот единственная возможность уловить очень тонкие, лежащие в глубине различия. Соблазн особенно велик, когда в повествование введены непохожие характеры с очень похожей внешностью, как это часто случается среди братьев и сестер. Это позволяет четко различить, в какой момент природа отходит от человека и на ее место заступает индивидуальность. Играть обе роли для актера – настоящий вызов! Для изображения мотива двойничества, в литературе необычайно значимого, кинематограф обладает великолепными техническими возможностями; благодаря наглядному сходству реальность на экране получает особый накал, к какому слова никогда бы не привели.
Истории о двойниках дают нам возможность жить другой жизнью, как своей собственной, и это самое интригующее. Ведь нам оказали вопиющую несправедливость, когда сократили наше существование до одной жизни. Мое «я» заключено в темницу, и я никогда не узнаю, как смотрят в глаза другие, как их целуют. Я тщетно пытаюсь затеряться в толпе незнакомых. «Я» неизменно волочится за мной, записывая на мой счет всякое чужое высказывание. Когда же примут меня за другого!
Вот где кроется невыразимый соблазн – оставаясь неузнанным, жить жизнью другого, жизнью двойника. Вот где могут открыться бездны психологии: как выходит, что я другой и в то же время прежний? И вот где наконец-то станет ясно, в какой мере отражаются на внешности человека, даже просто на лице, окружающая его обстановка и среда. И это, пожалуй, самый кинематографичный аспект. Физиогномия сокровенного, глубоко личного проступает на случайном фоне, как вырезанный из черной бумаги силуэт.
Мимика
Был такой французский фильм, в котором главную роль играла Сюзанна Депре, хотя в самом «действии» она не участвовала. Сюжет следующий: в кратком прологе мы видим нищенку возле умирающего ребенка, в отчаянии проклинающую свою судьбу. Является Смерть со словами: «Я покажу тебе жизнь, какая ожидала твое дитя. Смотри внимательно. И если после этого ты всё еще будешь на ней настаивать, так тому и быть». Потом начинается фильм – бессодержательная банальная повесть, рассказывающая о судьбе ребенка. И разворачивается она на глазах у матери, Сюзанны Депре. Мы видим ее лицо в левом углу экрана, она такой же зритель, как и мы, и все перипетии жизни ребенка отражаются в ее мимике. На протяжении полутора часов мы наблюдаем на лице игру – вспышки надежды, страха, радости, умиления, печали, мужества, беззаветной веры и бесконечного отчаяния. И это настоящая драма, главное содержание фильма. «Повесть» – только предлог.
Публика, наш доморощенный зритель, в течение полутора часов завороженно следит за этим спектаклем. Кинокомпания «Гомон» прекрасно понимала, что стоит на кону, и выплатила Депре неслыханный гонорар. Ведь публика и кинопромышленники давно смекнули то, о чем наши эстеты и литераторы еще не догадались: не эпическое определяет кинематограф, но лирическое.
Эпика ощущений
Мимическая игра отражает ощущения, а значит, она суть поэзия. И выразительные средства этой поэзии несравненно многообразнее и богаче, чем в литературе. Палитра жестов стократ обильнее палитры слов! А насколько точнее можно передать взглядом – не фразой – самые удивительные оттенки эмоций! Насколько мимика индивидуальнее слова, которым пользуются также другие! Насколько черты лица честнее и определеннее неизменно абстрактных и пространных понятий!
Вот где сокрыта настоящая и глубочайшая поэзия киноискусства. Кто судит о фильме исключительно по наличию в нем чудесного, похож на человека, который, прочтя стихотворение о любви, дивится: мол, что такого, она красавица, он любит, – к чему вся болтовня. И в самых великолепных кинокартинах ты часто слышишь не более того. Но то, как это говорится, словами не передать.
Обусловлено это двумя причинами. Во-первых, слово по своему значению в какой-то мере больше привязано ко времени, чем мимика. И во-вторых, слова, невольно выстраиваемые в определенном порядке, еще не гарантируют непременной гармонии и созвучия смыслов. Сейчас мы поясним.
В одном из фильмов героиня Асты Нильсен смотрит в окно и видит идущего по улице человека. Лицо девушки каменеет, в нем выражен застывший ужас. Но вскоре становится ясно: она обозналась, и приближающийся человек – не вестник беды, а напротив, ее великое счастье. Постепенно паника сменяется целой гаммой эмоций: от робкого недоумения, надежды, исполненной тревоги, и тихой радости – до настоящего экстаза счастья. Мы видим лицо крупным планом, на который ушло,