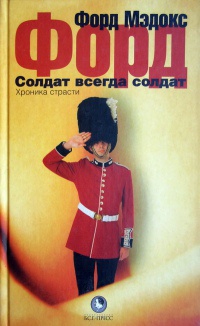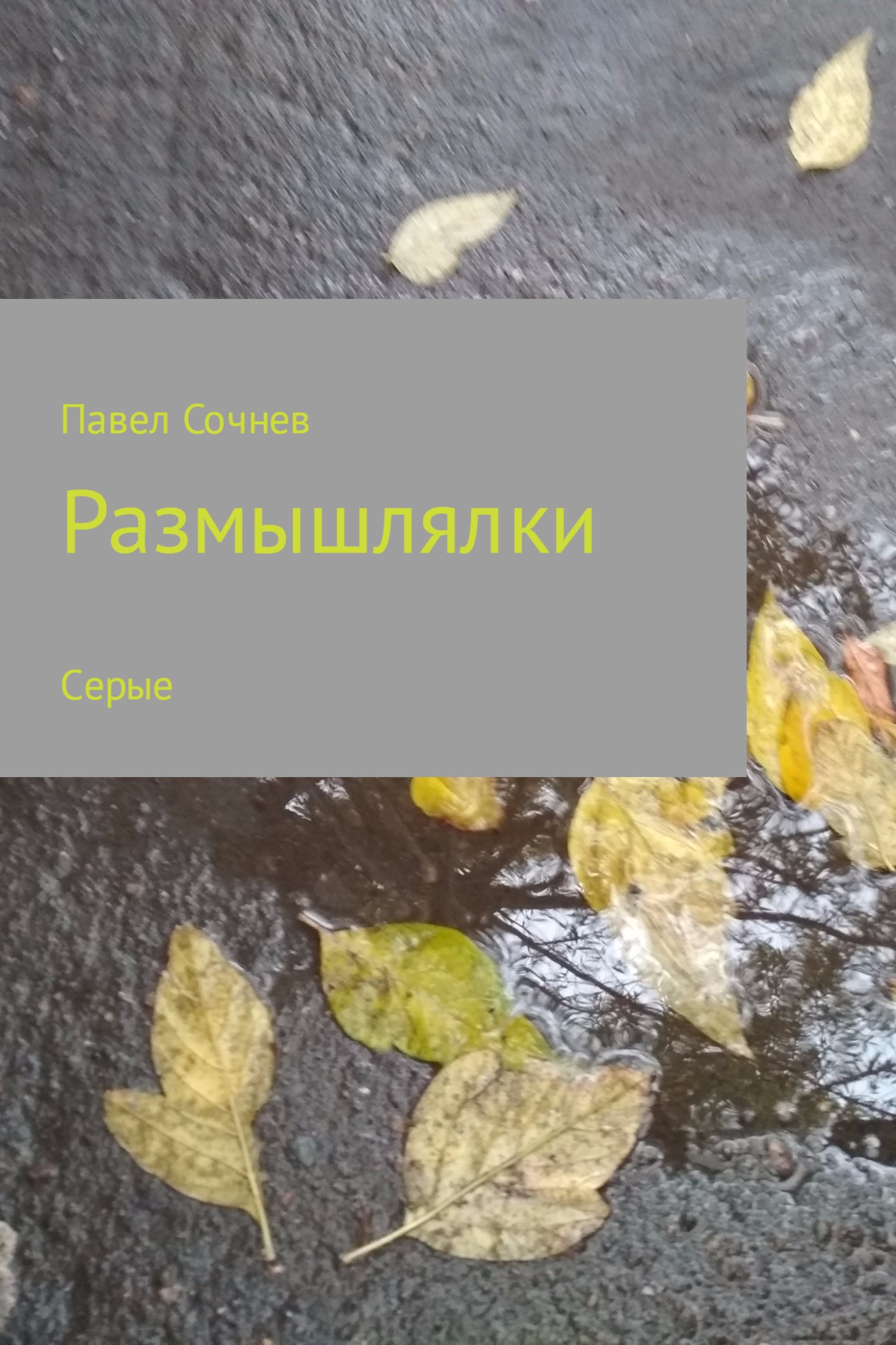и новобранцы часами стояли в дверях вагонов и все не могли насмотреться на море, все не могли надышаться им, и потом еще долго-долго ребята ощущали на губах своих его неповторимый солоновато-горький вкус. Под утро, уже в Хашури, море привиделось Сергею во сне, и он пробудился с грустным чувством невозместимой утраты. Было море, промелькнуло, поманило — и вот нет его. И кто знает — может, уже никогда не будет его в жизни Сергея.
А этот ручей обязательно доберется к морю.
Как стремительно мчится он вниз, к большой воде, как смело, играючи, перепрыгивает с одного каменного порожка на другой, как весело лопочет о чем-то на непонятном своем языке!
Беги, ручей! Счастливого тебе пути! Привет морю!
Хорошо постоять вот так у воды. И думается тут хорошо, и на сердце становится спокойно и ясно.
Конечно, Сергей не так уж доволен собой: не удалось ему сказать Саше Сафонову все, что хотелось. Но и то верно: нельзя же так сразу наваливаться на парня. Еще успеется. Еще наговоримся.
— Дай помогу, — сказал Сергей. — Снимай сапоги...
— Не надо, — упрямо поджав губы, возразил Саша. — Я сам.
— Ну, если так — действуй. А управишься, приходи к костру. Нечего тебе в одиночку волком выть.
Саша кивнул головой.
Продираясь сквозь густые заросли кустарника, Сергей больно наколол себе руку. Он отсосал губами кровь, сплюнул и по давней привычке утешил себя словами бабки Антоновны: «Ничего, до свадьбы заживет».
«Ах, бабка Антоновна, великая утешительница! Мне бы твое чародейное умение. А Сашка, подлец, схитрил. Так я ему и поверил, что он сразу успокоился. Будь это правдой, так меня под стекло надо поставить с табличкой: «Образцовый комсорг. Десять минут душевного разговора — и любой солдат перевоспитан». Словом, сказка для детей ясельного возраста. Просто стыдно стало парню, нельзя же бесконечно лить слезы, ну и прикинулся. А обиду на лейтенанта, наверно, спрятал поглубже. Нехорошо. И лейтенант нехорошо поступил. Не в бирюльки играет, не в оловянные солдатики, должен все же разбираться в людях. Обидел он Сафонова. Крепко обидел. Правда, Саше я этого не сказал, зачем растравлять рану. Но лейтенанту при случае скажу.
А вот скажу ли?»
Из-за поворота тропинки показался лейтенант Громов.
Приказом можно заставить солдата сделать все, что угодно. Возможное и невозможное. Нельзя лишь заставить его не думать. И когда Сергей Бражников увидел лейтенанта Громова, он против своей воли подумал: «Напрасно я Сашу назвал себялюбцем. Саша смалодушничал малость — печально, но что поделаешь. Это, как говорится, издержки роста. Со временем пройдет. А вот этот — настоящий себялюбец. Какое холодное, высокомерное лицо!».
Пожалуй, после строгой и хладнокровной проверки Сергей и отказался бы от некоторых своих чересчур резких суждений о лейтенанте. Но сейчас он ничего не мог поделать с собой. Она была сильнее его — откровенная неприязнь к этому человеку. И дело было, конечно, не в лице лейтенанта. Что бы там ни говорили Геннадию о его «римском» профиле, что бы он сам ни думал о своем лице, оно у него было обыкновенное, юношеское, и не доброе, и не злое, скорее, даже доброе. Нет, не оно, а как раз то, что Геннадий напускал на себя, то, что «делал» со своим лицом, согласно задуманному плану жизни, вызвало неприязнь у Бражникова. И еще обида за Сашу. Немного «позднего зажигания» обида. И тем не менее такая, которую сразу простить невозможно.
Но лейтенант Громов даже не подозревал об этом. Чуть-чуть прищурив глаза, он с интересом оглядел ладную, статную фигуру Бражникова.
«До чего же хорош солдат!»
Громов сразу, как только пришел во взвод, выделил и отметил его среди многих. «Замечательный солдат! Молодцеватый, исполнительный. Воплощенное повиновение. С такими любую гору можно свернуть. Жаль только, что не все такие. А выправка! Будто всю жизнь человек строевой занимался. И что еще очень важно — почтительный. Вот встал в сторонке, понимает солдат, что тропинка узка и надо дать пройти офицеру. Молодец!»
— Здравствуйте, — приветливо сказал Громов.
— Здравия желаю, товарищ лейтенант!
«Вот это чеканит», — с удовлетворением отметил про себя Громов и протянул солдату руку:
— Ну как, нравится вам наша «война»?
— Так точно! Нравится, товарищ лейтенант.
— Хорошо отвечаете, товарищ... ммм... простите, товарищ...
— Рядовой Бражников, — доложил Сергей.
Густая краска залила щеки Геннадия Громова. «Дьявольщина! Что мне делать с моей дырявой памятью? Ни одна солдатская фамилия в ней не держится, хоть убей», — искренне огорчился он.
А Бражников обрадовался тому, что лейтенант покраснел: «Значит, не такой он уж плохой человек. Пожалуй, зря я о нем так нехорошо думал». И вдруг решился: «Поговорю с ним. По душам. По-товарищески. Не съест же он меня за это».
— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться!
— Пожалуйста.
— Разрешите мне поговорить с вами, так сказать, неофициально, как комсомольцу с комсомольцем!
Геннадий удивленно вскинул брови. Рушилось представление об этом солдате. У лейтенанта не было намерения разговаривать с ним «так сказать, неофициально». Он рад был услышать желанное и ясное: «Так точно. Слушаюсь». А что еще ему нужно от этого солдата? Ровным счетом ничего.
— Пожалуйста, — несколько растерянно сказал лейтенант, — но мне думается: сейчас и не время и не место.
— А я думаю, для такого разговора всегда время. Если только не поздно, конечно. Бывает, что уже поздно. А место? Что такое место?
— Возможно, — неохотно согласился Громов. — Позвольте, однако, узнать, на какую тему вы хотите со мной поговорить?
«Ишь как закручивает, — подумал Сергей. — Вежливый. Но меня, брат, этим не удивишь».
— Тема? О человеке. О душе человеческой, товарищ лейтенант.
— О душе? — Громов рассмеялся, хотя ему вовсе не было весело. Как легко, оказывается, можно ошибиться в человеке. Думал — этот солдат способен только повиноваться, а он, гляди, куда полез. — Мудрено говорите, товарищ Бражников, — продолжал Громов. — Но позвольте вам заметить — эта самая душа человеческая не входит в круг моих служебных обязанностей.
Нет, Сергея Бражникова не так легко сбить. Он по-прежнему стоит смирно, руки по швам, и, если лейтенант скомандует «Кругом марш!», он выполнит эту команду. Беспрекословно. И все же он ни чуточки