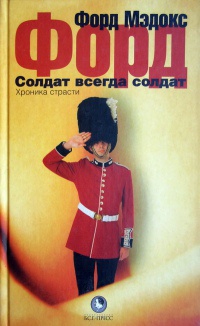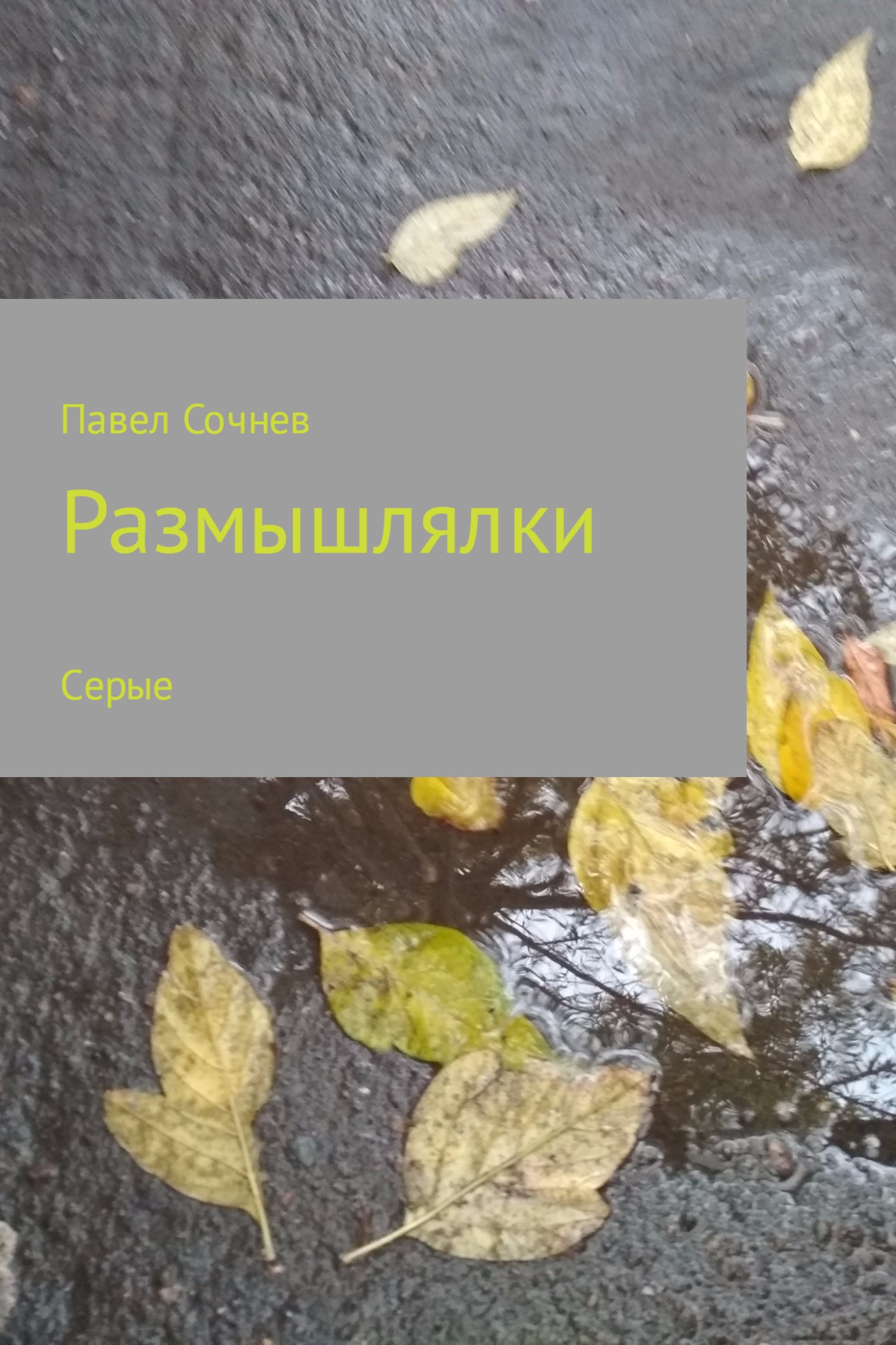Эммануил Фейгин
СОЛДАТ, СЫН СОЛДАТА
ЧАСЫ КОМАНДАРМА
Повести
СОЛДАТ, СЫН СОЛДАТА
Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!
Александр Блок
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
До чего же многолика осень! Она повсюду разная, и нашу горную закавказскую осень ни с какой другой не спутаешь. Здесь у нее свои повадки, свои неповторимые приметы, свои краски.
Она подожгла багряным огнем здешние леса, замела снегом перевальные тропы, наполнила водой пересохшие за лето реки, закружила опавшую листву в предгорных садах; она задула холодными ветрами и от горизонта до горизонта затянула небо свинцовыми тучами; она то и дело хмурилась и сердилась, и все же она была прекрасна в этих горах — капризная и прихотливая здешняя осень.
Особенно в это утро.
Весь вчерашний день и всю минувшую ночь лил дождь. Да и утром не сразу распогодилось: был еще и град, был еще и дождь вперемешку с мокрым, тяжелым снегом, и вдруг, словно по команде, подул ветер — властный, сильный, резкий, что-то лопнуло в сплошном облачном пологе, разошелся какой-то не очень прочный шов, и полог стал быстро расползаться на отдельные куски, лоскуты, клочья. Посвистывая и покрикивая, словно заправский пастух, ветер тотчас же погнал все это разрозненное облачное стадо за границу. Она была отсюда совсем недалеко, эта граница с соседним государством, а облакам, конечно, не нужны серпантинные дороги и вьючные тропы, облака побежали напрямик, подгоняемые, подталкиваемые ветром.
Человеку, который видел все это впервые, могло показаться, будто обнажилось дно какого-то огромного доисторического океана и сквозь мутноватую пену еще недавно великих вод стала проступать только что рожденная суша. Сперва появилась и поднялась к чистому, уже ясному небу белоглавая вершина горы-великана. Удивляло только, что, едва родившись, гора успела поседеть. Затем стали появляться на свет (а его вдруг стало очень много — ослепительного, яркого солнечного света) еще мокрые, не успевшие обсохнуть скалы и кусты, отдельные деревья, а потом лес — он поднялся из влажной пены, шумно отряхиваясь после долгого купания, роняя на землю сверкающие дождевые капли.
А ветер, выполнив свою работу, улегся отдыхать. И все здесь обрело какую-то очень спокойную, величавую красоту, словно никогда не шумели тут бури, не грохотали лавины, не сверкали молнии, словно всегда стояла эта нерушимая тишина.
Правда, чего-то еще не хватало. Одной какой-то детали. Но она и не могла остаться незавершенной, эта чудесная картина спокойствия и мира. В небо потянулась тоненькая струйка дыма... Его-то и не хватало. Живой, трепетный дымок появился так вовремя и к месту, словно вписала его в эту картину чья-то добрая, вдохновенная рука, и сам он был удивительно добрый, спокойный, мирный, хотя и подымался из трубы походной военной кухни.
Как и положено всякой походной военной кухне, она была тщательно скрыта в густом кустарнике на берегу небольшого горного ручья. Деловито попыхивая из трубы ароматным дымком, кухня неторопливо совершала свою нужную работу: в топке ее жарко горел веселый огонь, в котлах что-то булькало и пузырилось.
2
Повар Шакир Муртазов уже успел очистить целую груду картофеля и сейчас принялся шинковать капусту. Когда от большого тугого кочана осталась только сердцевина, Шакир обстругал ее острым ножом и протянул старшине Григорию Ивановичу Петрову.
— Угощайтесь, товарищ старшина, очень вкусная кочерыжка.
— Вкусная, — почему-то повторил Григорий Иванович и едва заметно вздохнул: — Это верно... Хорошая штука кочерыжка. Когда-то я любил, а сейчас зубы не те.
Шакир из вежливости изобразил на своем лице огорчение. Это ему нетрудно — он немного артист. Но попробуйте всерьез огорчить повара, и это вам не удастся. И в самом деле, чего ему огорчаться! Он молод, за плечами только двадцать лет, посмотрите на его пышущие румянцем щеки; он удачлив во всем, за что ни возьмется: откушайте хотя бы разок его борща — ложку оближете. А ведь до армии Шакир сам себе чаю не заваривал, потому что работал в совхозе трактористом и жил в бригаде на всем готовом.
Хотя Шакир способен иногда на невинную хитрость и может при желании изобразить что угодно, вежливость и доброта у него неподдельные. И он подумал, что лейтенанта Громова тоже следует угостить кочерыжкой. Правда, это не старшина — как-то уж слишком неприступно держится лейтенант, — только от кочерыжки он, конечно, не откажется.
— Товарищ лейтенант, а вы? Такая вкусная...
Но лейтенант отказался от угощения. И не по той причине, что старшина. Зубы у Геннадия Громова отменные, и в свои двадцать два года Геннадий не забыл, как вкусна чуть тронутая первыми заморозками капустная сердцевина. Но разве допустимо, чтобы офицер на виду у всех хрумкал, грызя кочерыжку? Что скажут люди? А он очень заботился о том, чтобы люди говорили и думали о нем только хорошее. Правда, сами эти люди, к сожалению, не очень интересовали Громова. Ему казалось, что он уже знает о них все, что положено ему знать, а он не психолог, не писатель — он командир. «Человек есть человек, чего же тут рассусоливать, чего же расписывать?» — убеждал он самого себя и смотрелся в окружающих людей, как иные смотрятся в зеркало. И видел он, конечно, при этом не людей, а свое собственное отражение в их глазах, в их улыбках, в их безмолвном одобрении и восхищении. Притом он был почему-то уверен, что окружающие и даже случайно встреченные люди думают о нем примерно так: «До чего же хорош лейтенант! Образец! Эталон офицера».
А он и в самом деле был очень хорош собой. Лицо у него было строгой, суровой чеканки, что особенно подчеркивал нос несколько хищного рисунка, с очень заметной горбинкой.
«У тебя, Гена, профиль римского воина», — сказала мамина приятельница, театральная художница Елена Стукальская. Геннадий охотно согласился с такой оценкой. Но глаза! Геннадий хотел, чтобы у него были холодные, пронзительные, стального цвета глаза, а они, как назло, были