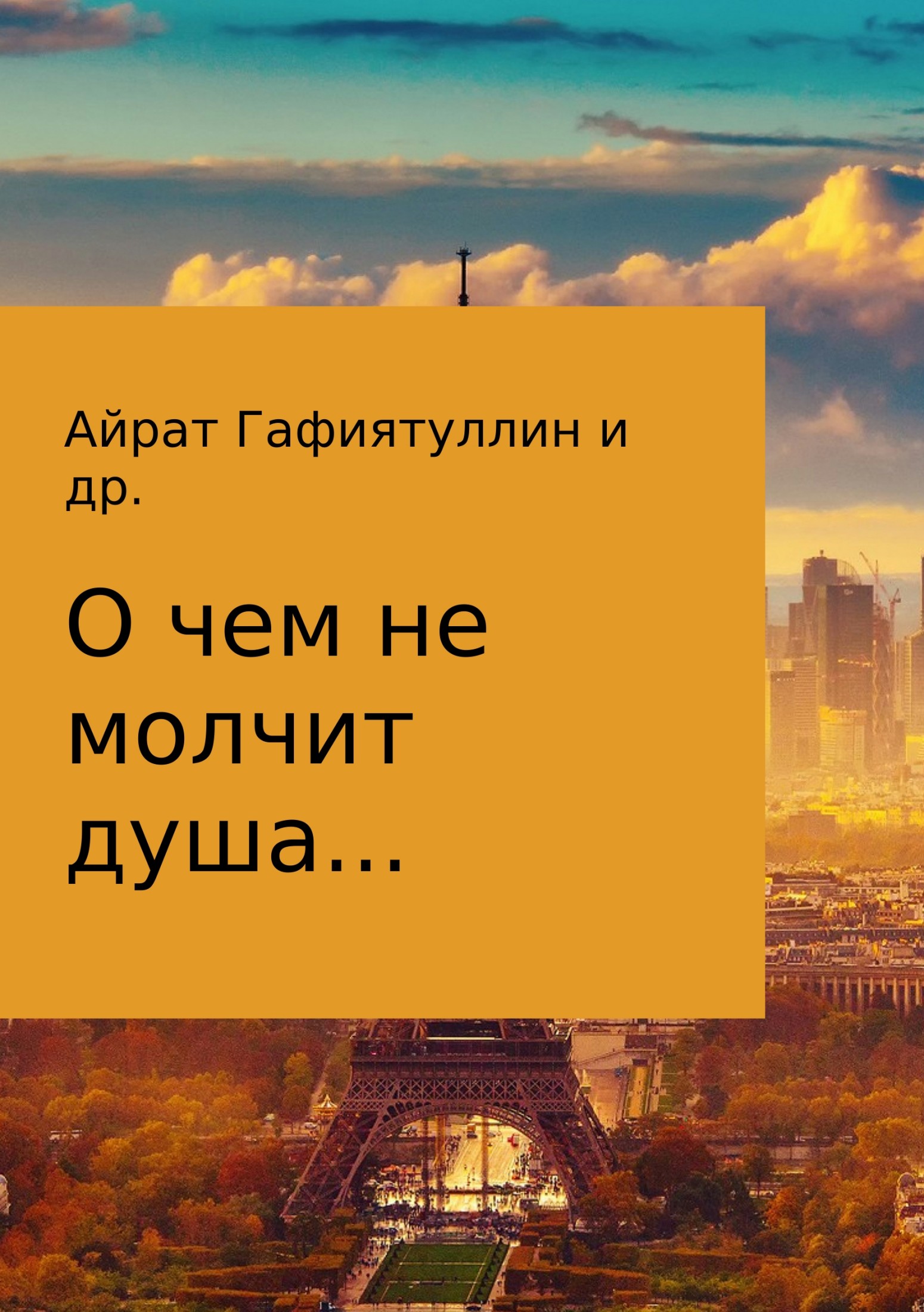что давай рисовать, пока мы не вернулись в свое скучное сознание!
– Но у нас нет холста. И красок тоже нет. – После первой бутылки Адам чуть не рыдал, что не взял с собой ни тюбика краски, «даже гребаную акварель не взял!».
– У нас есть наши тела.
Адам разбил горлышко бутылки о бортик ванной. До этого мы хотели наполнить ванную шампанским: начали гуглить «сколько бутылок…» – первый вариант был «сколько бутылок водки надо выпить, чтобы умереть».
Мы расхохотались, но потом Адам серьезно сказал: «Три. За час». Затем мы набрели на статью, что от ванны с шампанским можно умереть, так как алкоголь всасывается в организм, минуя пищеварительную систему, плюс человек дышит его парами.
Адам сказал:
– Вот это красивый способ умереть! И проспиртованный труп должен выглядеть приятно.
Но ванну мы так и не наполнили. Адам поднял один из осколков, посмотрел сквозь него на свет лампы, полил его шампанским («дезинфекция») и сделал небольшой порез на ладони параллельно линии жизни.
– Ты будешь моим холстом.
Крови было совсем немного. Адам размазал ее по моему лицу, снимая это на видео. По его пьяному замыслу, это должна была быть короткометражка: с лицом в мазках крови я ела консервированные вишни в ликере («Не смотри в камеру! Роза, блин! Не смотри в камеру!»). В общем, ничего у нас не получилось, а Адам чуть не разбил телефон о стену от злости.
Я думала, что он меня ударит. И даже немного хотела этого – тогда бы я почувствовала, что вызываю у него хоть какие-то эмоции. Но он злился не из-за моего кокетства с камерой, он ненавидел свою неспособность создать что-то выдающееся.
На второй день я наконец-то поверила, что он никуда не денется. Что не придут Ада или Венера, не отнимут его у меня. Я, по-детски веселясь, взбалтывала бутылки шампанского, прежде чем их открыть. Пол в спальне и ванной стал липким, но мы не снимали табличку «Не беспокоить» – только принимали еду за порогом, никого не пуская внутрь. Адам говорил, что посторонний нарушит нашу атмосферу, а я таяла от самовнушения, что ему сейчас не нужен никто, кроме меня. Несколько раз за один день он заказывал для меня цветы (кажется, будучи пьяным, он просто забывал о заказе и звонил снова):
– У меня тут в номере Роза, и ей нужны розы. Слышите, миллион алых роз!
Корректные сотрудники уточняли, сколько все-таки роз принести, и, так и не получив внятный ответ, покупали самый большой букет. Я, пьяная, разрыдалась, сначала растрогавшись, а потом от осознания, что под цветы нет вазы и они быстро завянут.
– Розочки так быстро увядают, – говорил Адам, гладя меня по волосам и пытаясь успокоить.
В итоге мы оставили их в ванной, а потом, будучи одичавшими от третьей или четвертой по счету бутылки за день (от реального шампанского нам всегда доставалось не больше половины бутылки – часть выплескивалась фонтаном при открытии, другая – просто проливалась мимо: мы обливали шампанским друг друга, то в гневе, то веселясь), распотрошили букет на кровати.
– Будем трахаться в лепестках, – сказал Адам и отрубился до утра.
– А знаешь, что самое страшное? Даже если я войду в историю, то через пару-сотню лет, хотя сейчас, наверное, даже быстрее, я стану просто уважаемым примером. Как Пушкин сейчас. Никто ведь уже не считает его стихи гениальными. Сколько там банальностей, сколько простоты и диатезного романтизма. Кто его сейчас читает для наслаждения? Он просто ступенька в истории. Как боттичеллиевские красавицы… Да та же Венера! Разве не знатоки отличат боттичеллиевскую Венеру от иллюстрации в детской книжке мифов? Она же плоская! Мне вообще всегда казалось, что у нее шея сломана. Я не вижу в ней ни музыкальности, ни поэтичности. Понимаешь? Все устаревает, все становится просто историческим этапом. После смерти пульс произведений бьется чуть дольше автора. «Спящая Венера» и «Венера Урбинская» – прах. «Маха обнаженная» – холодный труп. «Олимпия» Мане – еще еле слышно дышит, хрипя. У «Современной Олимпии» Сезанна сердце крепкое, еще качает кровь. Я хочу, чтобы моя «Олимпия» вечно пульсировала. Я хочу быть вечно яростным. Ближе к первобытности. Дионисийским. Чтобы мое творчество было по эффекту как наркотик.
– Как способность торчать, избежав укола?
– Ты все правильно понимаешь, Розочка.
– Но лучше запомниться хоть чем-то, чем остаться вообще безызвестным.
– Нет! Я не хочу превратиться в академическую скуку, в сводящие скулы умные определения. Не хочу, чтобы на меня ссылались или переосмысляли, не хочу превратиться в растиражированный образ, к которому должен обратиться каждый второй художник – как башня Татлина или «Черный квадрат». Я хочу быть всегда настоящим, из кровоточащего мяса, а не эфемерным облачком.
– Ты настоящий. Без рамок. Как ребенок.
– Дети – потрясающие. Сколько погруженности в свой мир без нудного самокопания! Сколько искренности в их ударах и поцелуях. Я в детстве дрался с братьями до крови, мы так яростно избивали друг друга, не думая о законах, морали, чужих чувствах. Сейчас я не могу погрузиться в такую ярость. Потому что есть тюрьма, есть совесть. Я так мечтал делать кровавые перформансы – чтобы люди смотрели не на картины, а именно на процесс создания картин. Но у Венеры было столько «но»: «А что, если ты слишком сильно кого-нибудь порежешь?», «Если ты будешь резать девушек – это воспримут как сексизм», «Вдруг тебя обвинят в заражении?». Люди стали пушистыми комочками домашней пыли. Вся современная политкорректность и толерантность – это просто страх дискомфорта. Что надо будет объяснять и отстаивать свою точку зрения. Зачем? Нам удобно, нам уже придумали модель поведения.
– Мне нравится, что у тебя всегда влажные глаза, – сказал мне Адам, когда я растрогалась от его комплимента: «Твои позвонки достойны быть вылеплены в мраморе».
Я часто бывала бесчувственной ко многим вещам, происходившим со знакомыми, но могла разрыдаться от слишком рано облетевшего яблоневого цвета из-за ураганного ветра или красиво-трагичной биографии кого-нибудь из прошлых веков. К чужим комплиментам я обычно относилась с недоверием («Ему что-то от меня надо!»), но сейчас, с Адамом, я была максимально расслаблена и в то же время натянута как струна. Я хохотала до слез, мы вместе ревели над какими-то азиатскими сериалами, которые включали для фона, но от нечего делать залипали на них, как маленькие дети гипнотично смотрят рекламу. Адам рыдал над утраченными картинами, и у меня тоже катились слезы.
– «Девочка с влажными глазами» – назови так свою автобиографию.
– Мне нечего там будет написать. Только про тебя.
– Придумай. Сначала придумай себе жизнь, которой ты