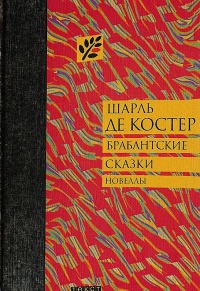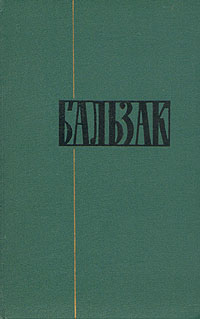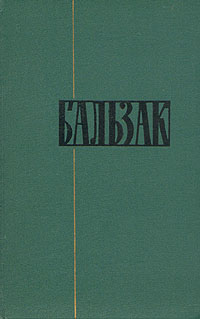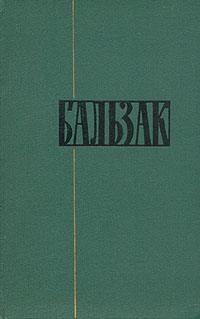– Возможно ли, – отвечала принцесса, – чтобы вы думали, будто есть толика притворства в моем признании, которого ничто не вынуждало меня вам делать? Положитесь на мои слова; я дорогой ценой покупаю то доверие, которого у вас прошу. Умоляю вас, поверьте, что я не дарила своего портрета; я и вправду видела, как его взяли, но я не хотела показывать, что это вижу, опасаясь, что мне придется выслушать такие слова, каких мне еще никто не осмеливался говорить.
– Как же вы узнали, что он вас любит, – спросил принц Клевский, – какие свидетельства своей страсти он вам дал?
– Избавьте меня от муки, – отвечала она, – пересказывать вам те мелочи, которые я сама стыжусь замечать и которые слишком убедили меня в собственной слабости.
– Вы правы, сударыня, – сказал он, – я несправедлив. Отказывайтесь отвечать всякий раз, когда я буду спрашивать о таких вещах, но все же не считайте за оскорбление, если я о них спрашиваю.
В эту минуту несколько человек из домочадцев, остававшихся в аллее, пришли сказать принцу Клевскому, что к нему приехал гонец от короля с повелением быть вечером в Париже. Принц Клевский принужден был отправиться тотчас, успев лишь сказать жене, что просит ее приехать завтра и заклинает верить, что, как бы ему ни было больно, он питает к ней такую нежность и такое уважение, какими она может быть довольна.
Когда принц уехал и принцесса Клевская осталась одна, когда она стала думать о том, что сделала, то испытала такой страх, что едва могла поверить в истинность произошедшего. Ей казалось, что она сама лишила себя привязанности и уважения мужа, сама разверзла перед собой пропасть, из которой ей никогда не выбраться. Она спрашивала себя, как это она отважилась на такой рискованный поступок, и понимала, что пошла на него почти не рассуждая. Необычность подобного признания, схожих примеров с которым она не находила, показывала ей всю его опасность.
Но когда она подумала, что это средство, каким бы оно ни было суровым, – единственное, которое могло спасти ее от господина де Немура, то сочла, что ей не следует раскаиваться и что риск был не так уж велик. Всю ночь она провела в сомнениях, тревоге и страхе, но затем в душе ее вновь воцарился покой. Она даже радовалась тому, что дала это свидетельство верности мужу, который так очевидно его заслуживал, который питал к ней такое уважение и такие добрые чувства и что еще подтвердил их тем, как он принял ее признание.
Тем временем господин де Немур покинул то место, где слушал беседу, столь живо его взволновавшую, и углубился в лес. То, что принцесса Клевская сказала о своем портрете, вернуло его к жизни, открыв ему, что он и есть тот человек, который ей не противен. Поначалу он предался радости, но она длилась недолго; он подумал, что те самые слова, которые дали ему понять, что он тронул сердце принцессы Клевской, должны также его убедить, что он никогда не получит свидетельств этому и что невозможно победить женщину, которая прибегает к столь необычным средствам. И все же он чувствовал истинное удовольствие от того, что довел ее до такой крайности. Он был горд тем, что заставил полюбить себя женщину столь непохожую на других особ ее пола. Одним словом, он ощущал себя стократ счастливым и несчастным одновременно. Ночь застала его в лесу, и он с большим трудом отыскал дорогу к замку госпожи де Меркёр. Он добрался туда на заре. Ему непросто было объяснить, что его так задержало; он справился с этим как мог и в тот же день вернулся в Париж вместе с видамом.
Герцог был так полон своей страстью и так поражен тем, что услышал, что совершил обычную неосторожность: говорить в общих выражениях о своих особых чувствах и рассказывать о собственных приключениях под заемными именами. На обратном пути он перевел разговор на любовь, стал восхвалять счастье любить женщину, достойную любви. Он говорил об удивительном воздействии этой страсти и наконец, не в силах хранить в себе изумление от поступка принцессы Клевской, описал его видаму, не называя имен и не упоминая, что имел к нему какое-то отношение; но он рассказывал об этом поступке с такой горячностью и с таким восхищением, что видам тут же заподозрил, что герцог играл в этой истории какую-то роль. Он стал со всей настойчивостью уговаривать герцога ему в том признаться. Он сказал, будто давно понял, что герцог питает какую-то сильную страсть и что несправедливо с его стороны таиться от человека, который доверил ему тайну своей жизни. Господин де Немур был слишком влюблен, чтобы признаться в своей любви; он всегда скрывал ее от видама, хотя и любил его больше всех при дворе. Он отвечал, что один из его друзей рассказал ему эту историю и взял с него слово молчать и что он тоже просит видама хранить эту тайну. Видам уверил его, что не будет о ней говорить; и все же господин де Немур раскаивался, что сказал ему так много.
Тем временем принц Клевский явился к королю; сердце его терзала мучительная боль. Ни один муж не питал к жене столь пылкой страсти и столь глубокого уважения. То, что он узнал, не лишило принцессу этого уважения, но оно стало иным, чем прежде. Более всего занимало принца желание угадать того, кто сумел ей понравиться. Господин де Немур пришел ему на ум первым, так как был самым привлекательным мужчиной при дворе, а затем шевалье де Гиз и маршал де Сент-Андре, двое мужчин, которые старались ей понравиться и все еще оказывали ей много внимания; так он остановился на мысли, что это должен быть кто-то из них троих. Он появился в Лувре; король увел его в свой кабинет и сказал, что выбрал его сопровождать Мадам в Испанию, что, по его мнению, никто не справится с этим поручением лучше принца и никто также не принесет Франции больше чести, чем принцесса Клевская. Принц отнесся к столь почетному выбору как должно и к тому же решил, что это обстоятельство позволит его жене удалиться от двора без видимых перемен в ее поведении. Однако до отъезда оставалось слишком много времени, чтобы это могло вывести принца из его нынешнего затруднительного положения. Он тотчас же написал жене, извещая ее о том, что сказал король, и напоминая снова о своем непременном желании, чтобы она вернулась в Париж. Она вернулась, как он велел, и когда они встретились, то оба были в глубокой грусти.
Принц Клевский заговорил с ней как самый благородный и самый достойный ее поступка человек на свете.
– Я вовсе не тревожусь о вашем поведении, – сказал он, – у вас больше сил и добродетели, чем вы сами думаете. И не страх за будущее меня печалит. Меня печалит лишь то, что вы питаете к другому чувства, которых я вам внушить не сумел.
– Не знаю, что вам ответить, – промолвила она, – я умираю от стыда, говоря с вами об этом. Молю вас, избавьте меня от столь мучительных бесед, руководите мною, устройте так, чтобы я ни с кем не виделась. Это все, о чем я вас прошу. Но позвольте мне не говорить больше с вами о том, что делает меня недостойной вас и что я считаю недостойным меня.
– Вы правы, сударыня, – отвечал он, – я злоупотребляю вашей кротостью и вашим доверием; но имейте и вы сострадание к тем чувствам, в которые меня повергли, – подумайте, ведь, как бы много вы мне ни сказали, вы таите от меня имя, возбуждающее у меня такое желание его узнать, что я не смогу с этим желанием жить. Я не прошу вас удовлетворить его, но не могу и не сказать вам, что вижу того, кому должен завидовать, либо в маршале де Сент-Андре, либо в герцоге де Немуре, либо в шевалье де Гизе.