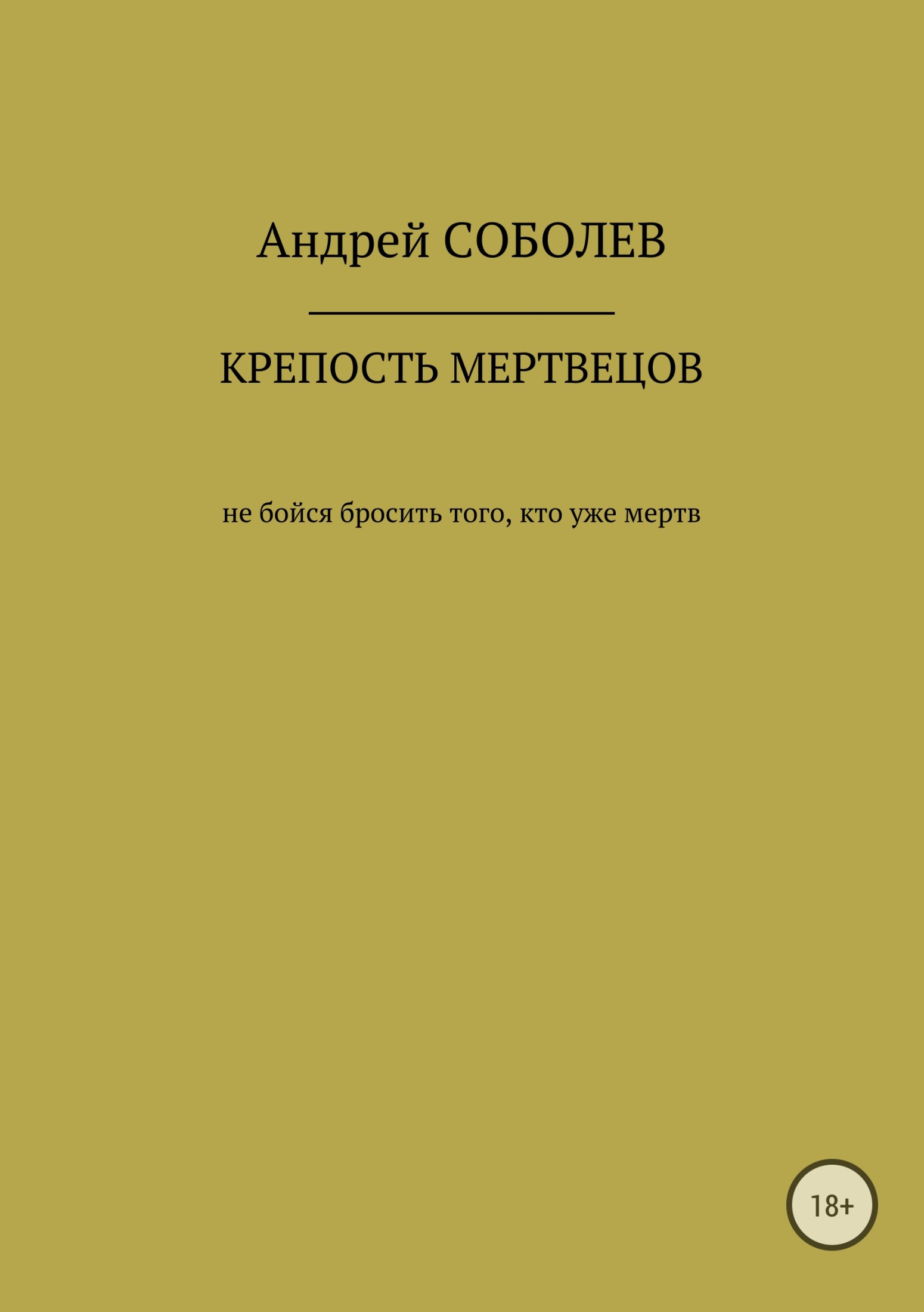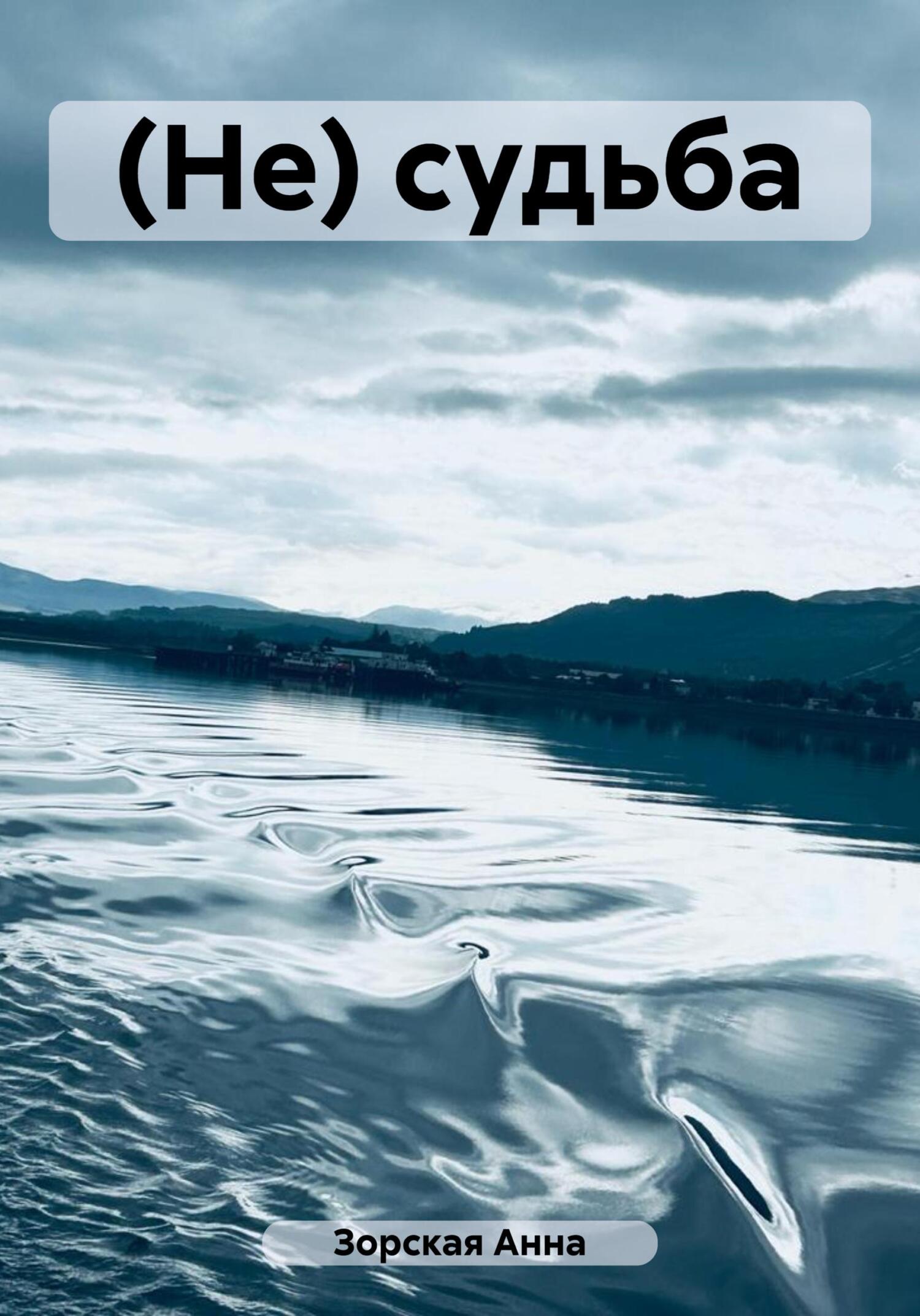сметливые финны быстро сообразили, что в переменившихся условиях, когда государственная граница вдруг пролегла в нескольких верстах от наследной мызы, их знания представляют исключительный практический интерес, – и очень осторожно, соблюдая чрезвычайную конспирацию, стали переводить избранных лиц из Совдепии в свободную Финляндию и обратно.
Войти к ним в доверие было чрезвычайно трудно, почти невозможно, но знакомцу Викулина это удалось – и, несколько раз воспользовавшись их услугами, он, в свою очередь, сам получил право рекомендовать новых соискателей. Викулин собирался в ближайшие дни эту границу пересечь и настоятельно рекомендовал нам составить ему компанию.
Несмотря на сильный козырь в лице корыстолюбивых финнов, на этом пути нас, если бы мы согласились, подстерегали некоторые существенные трудности. Во-первых, не так-то просто было добраться до самой границы: поезда, бывшие дачные, еще иногда ходили, но в них бесчинствовали красные патрули, которые на этой линии не только отлавливали спекулянтов, но и пытались выявить (о, эти стихийные физиогномисты с наганами!) пассажиров со слишком благородной осанкой или интеллигентными лицами, подозревая их в стремлении нелегально покинуть большевистский рай. Их следовало обмануть, причем Викулин – не знаю, по совету своего знакомца или благодаря собственным умственным усилиям – придумал для этого целый маскарад. Мы должны были вырядиться в мещанскую одежду, причем изображать одну семью: одна из нас должна была сыграть роль молодой жены Викулина, а вторая – ее сестры; соответственно, Стейси доставалась роль викулинской дочери. Подразумевалось, что мы всей дружной семейкой ездили в Петроград, чтобы обменять на рынке продукты на что-нибудь нужное для хозяйства: отвезли, допустим, бочонок меда со своей пасеки и взамен приобрели ковер, который и транспортируем в семейное гнездо в Белоострове. Настоялись мы на базаре, пока ждали покупателя, потом спрыснули удачную сделку самогонкой, поплясали под гармошку и, стало быть, едем до дому. Реквизит, изображавший ковер, у нас уже имелся: как ни смешно, им была пресловутая картина, с которой бедолага так и не смог или не захотел расстаться, – с кровью сердца он извлек ее из роскошной рамы и закатал в трубочку, так что она действительно стала точь-в-точь похожа на ковер – главное, чтобы патрульные не захотели им полюбоваться.
Этим возможные трудности не исчерпывались: как раз в эти дни в Финляндии шла собственная братоубийственная война между югом (условными «красными», состоящими в тесных связях с новой петроградской властью) и севером, где держали оборону «белые» и где пребывало беглое правительство. К маю «красные» при участии немецких войск были в основном разгромлены – но среди условий, поставленных немцами, была депортация русских, в том числе новых эмигрантов, обратно в Совдепию, что для кое-кого из них означало смертный приговор. При этих обстоятельствах переходить границу казалось делом совершенно самоубийственным – стоило ли, рискуя жизнью, скрываться от красных, чтобы немцы немедленно выдали нас прямо им в лапы? Но приятель Викулина предусмотрел это, придумав остроумный ход: через какие-то свои таинственные связи он раздобыл чистые бланки паспортов Автономной Эстляндской губернии, в которые и собирался вписать наши имена. Сама Эстляндская губерния успела пробыть независимой несколько месяцев, после чего была поглощена Германией, но ее документы выглядели весьма убедительно и, как показало несколько уже произведенных проб, охотно принимались финской полицией.
Рассказавший все это Викулин не ждал от нас немедленного ответа, но советовал с ним не затягивать: предварительно отъезд был назначен на следующую неделю. Я попробовала было заговорить о материальной стороне дела, но он замахал руками в том смысле, что все расходы собирается взять на себя. Наконец он ушел. Пока Мамарина пошла укладывать Стейси, я стала убирать со стола (прислуга у нас была приходящая), раздумывая о том, как отнестись к этому предложению.
При обычных обстоятельствах собственная наша воля почти атрофирована: рядовой солдат может сколько угодно втайне предпочитать роскошный юг суровому северу, но служить он будет только там, где ему прикажет начальство. Так и мы: безусловно, нам не воспрещено иметь собственные склонности, но все они меркнут перед главным нашим инстинктом, который и составляет стержень нашего существования – следовать за объектом и охранять его. Куда бы Мамарина ни потащила Стейси – хоть в тундру, где лопарь печально оглядывает своего единственного друга, последнего северного оленя, прикидывая, с какой его части начать прощальную трапезу, – я все равно буду рядом и настороже. Но сейчас, когда, как мне кажется, я вполне могла принять за нее решение, я с непривычки растерялась.
Не знаю как другим (да мне толком и не с кем было об этом поговорить), но мне казалось, что власть большевиков установилась надолго, если не навсегда. Первые месяцы их хозяйничанья показали, что лучшее положение по отношению к ним – оказаться по ту сторону государственной границы, так что с точки зрения безопасности воспользоваться этим, может быть, единственным шансом и уехать прочь было бы весьма неплохо.
Было здесь и еще одно немаловажное обстоятельство. Мамарина, привыкшая существовать на свою ренту, вовсе не задумывалась над тем, что делать, когда наши финансы иссякнут, – меня же это очень беспокоило. Вероятно, детей не перестанут учить в гимназиях, так что какой-то кусок хлеба у меня будет – но вряд ли его окажется достаточно, чтобы прокормить троих: шансы же, что Мамарина устроится на работу, представлялись мне ничтожными. До сих пор нас спасал прощальный дар Монахова-старшего: между прочим, второй из его конвертов мы должны были использовать именно в Гельсингфорсе – и это, конечно, был весьма существенный довод в пользу отъезда.
Смущала же меня абсолютная необратимость того, что должно было произойти. Саму меня, как того самого солдата, в прошедшей жизни ничего не удерживало – но все равно, чтобы провести эту черту, требовалось какое-то особенное душевное усилие, на которое я не могла решиться. Даже, думаю, Эвридика, покидавшая преисподнюю, замедлила на секунду шаги – не потому, что ей не хотелось ее покидать, а просто так, повинуясь неизбежному чувству. Несколько безоблачных месяцев, проведенных в Вологде, запомнились мне настолько теплой и светлой чередой дней, что невозможно было поверить, что они навсегда сметены потоком безжалостного времени. До сих пор я могла тешить себя иллюзией, что мы вернемся в наш дом на набережной, осколки разбитого срастутся, больные выздоровеют, покойники встанут из могил, и все будет по-прежнему – но, покидая Россию, окончательно признавала бесплодность этих наивных мечтаний.
– А что вы думаете, Елизавета Александровна? – спросила я Мамарину, которая тем временем вернулась, уложив дочь.
– Это о чем? – рассеянно отвечала она. Мне сразу захотелось ударить ее по голове супницей, которую я как раз домывала.
– О предложении Гавриила