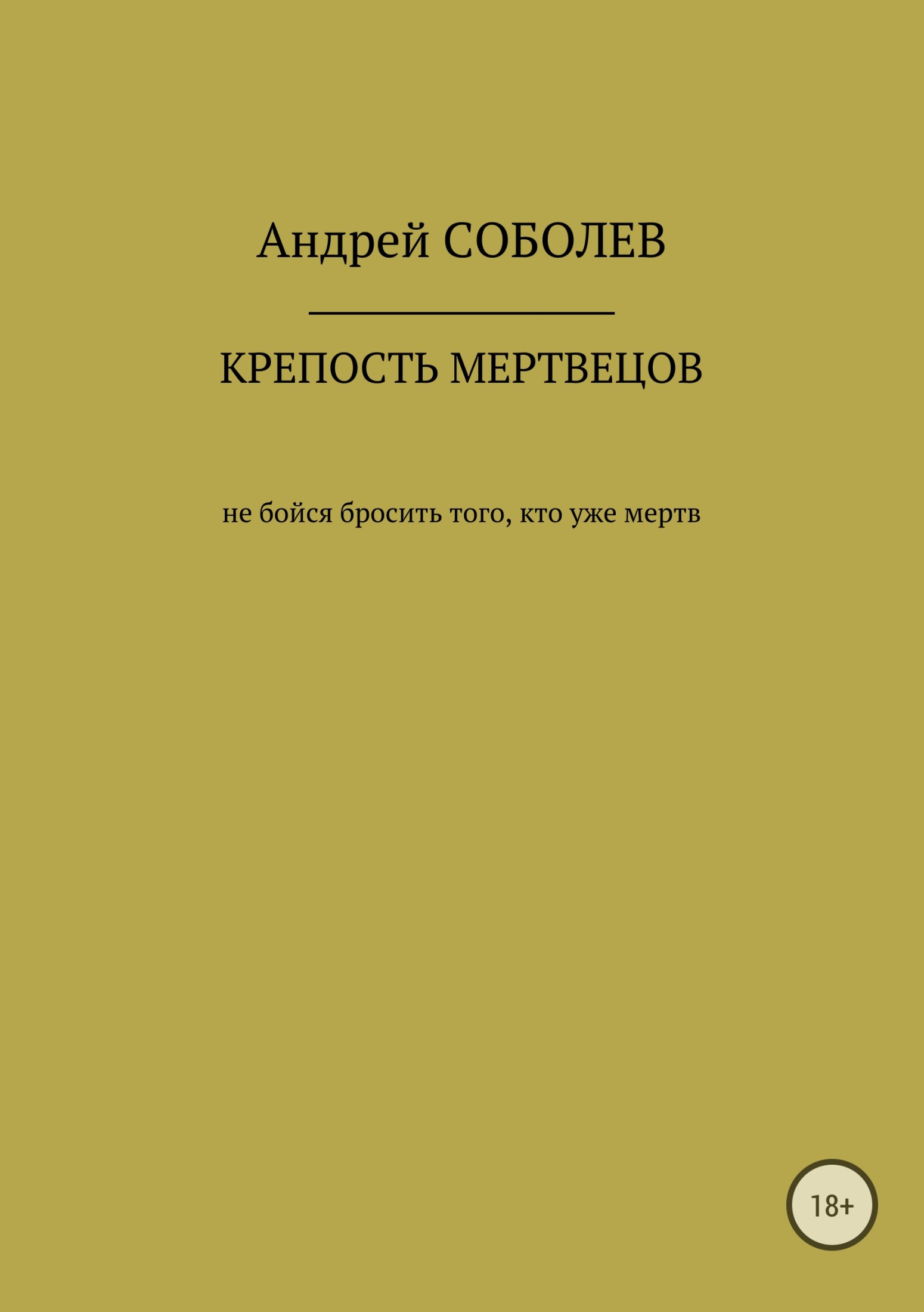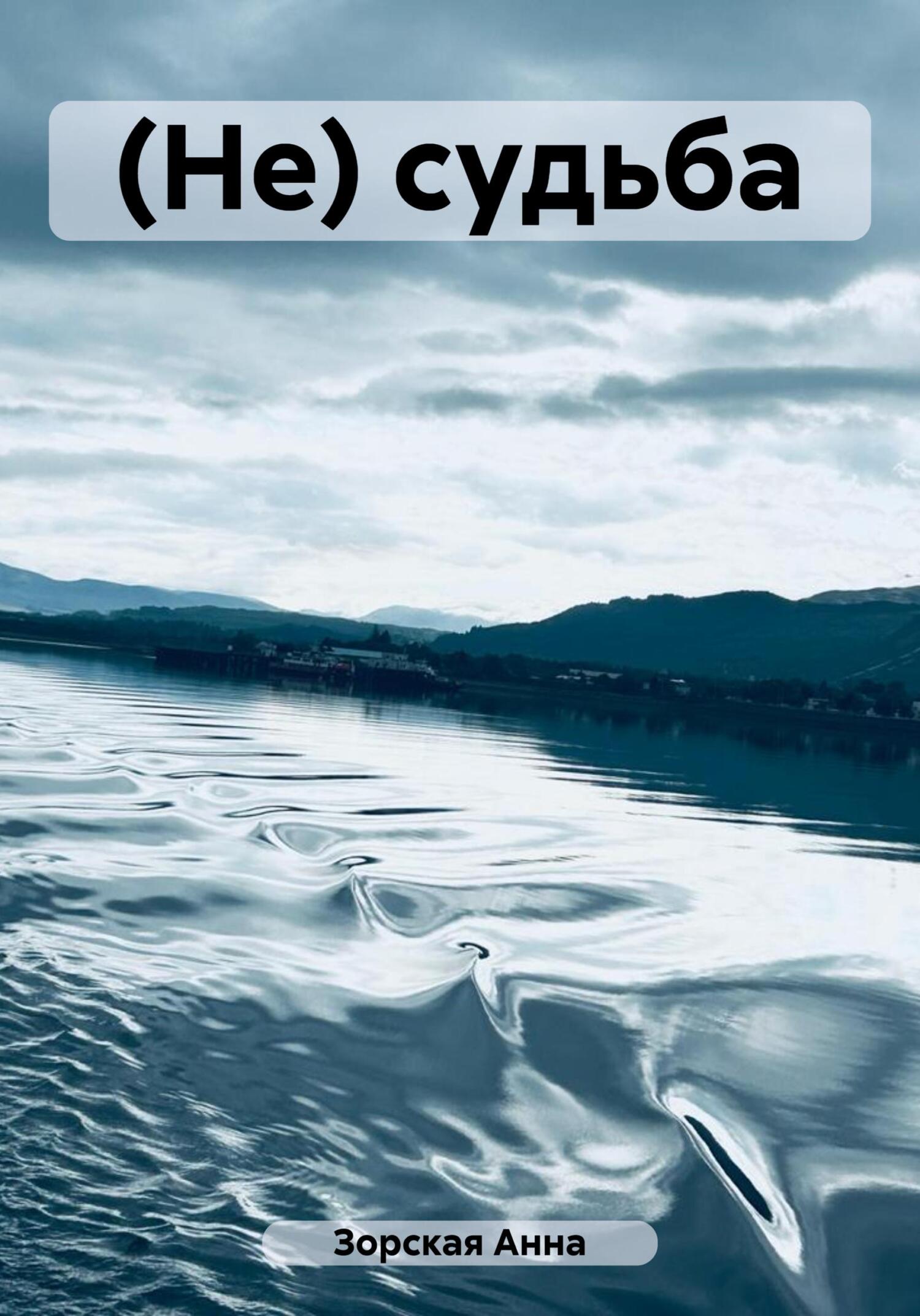он поднимал на нее глаза, быстро наполняющиеся слезами (в прежней жизни он ревой совсем не был). Порой он появлялся из каких-то темных закоулков и манил ее за собой: она покорно шла, но натыкалась вдруг на тупик или запертую дверь. Иногда – и это были самые лучшие сны – он ставил ей иголки и окуривал своей полынной сигарой, после чего Маша просыпалась отдохнувшей и посвежевшей.
Сперва, когда доктор только начал ей являться, она подумала, что он выражает недовольство ее (совершенно невиннейшими) встречами с одним из сослуживцев зятя, «скромным и воспитанным человеком», как отзывалась о нем сама Маша, – и она, опасаясь этой загробной ревности, прекратила с ним всякие сношения, раз за разом сказываясь больной при его визитах. Но призрак доктора, похоже, если и испытывал какие-то недобрые чувства к Каульбарсу (Мамарина, чья память вечно была набита пустяками, вспомнила его фамилию, хотя Маша ее и не называла в письме), то являлся все-таки не ради их демонстрации, потому что посещения его не прекратились. Начиная с какого-то момента он стал являться каждую ночь, едва только голова Маши касалась подушки, но формы его визитов сделались разнообразнее. Иногда он стоял спиной к ней у своего собственного мольберта, причем вместо привычного уже пейзажа с лошадью рисовал что-то настолько необыкновенное, что невольная зрительница не бралась даже это описать. Один раз он пришел как будто с рыбалки, в высоких сапогах, с удочкой и садком, но высыпал из садка не лещей и щук, как обычно, а нескольких черепах с блестящими панцирями, которые мигом, с несвойственной этим животным прытью, разбежались по углам комнаты. Иногда их свидания происходили не в обычном их доме и даже не в Вологде, а в каком-то огромном замке на вершине горы, где на стенах висели перекрещенные алебарды, а из-за окна слышался стук копыт, звон мечей и тянуло кислым дымком.
Сновидицу, как следовало из письма, беспокоили не сами сны (ставшие для нее чем-то вроде личного синематографа), а то, что доктор, может быть, хочет их посредством сообщить что-то важное, чего она никак не может расшифровать. Поэтому она не то чтобы впрямую спрашивала у нас (поскольку письмо было адресовано нам обеим) совета, но явно намекала на его желательность: иначе вряд ли стоило так подробно пересказывать нам все эти хитросплетенные сюжеты.
Мне не очень верилось, что доктор, даже в своем нынешнем потустороннем пребывании, способен досаждать своей возлюбленной этими визитами, так что мне скорее казалось, что дело в расстроенном состоянии собственных нервов Маши. Будь на то моя воля, я бы предписала ей полностью отказаться от мяса, побольше гулять на свежем воздухе и, между прочим, поблагосклоннее отнестись к воспитанному Каульбарсу: думаю, кстати, что все это (кроме, может быть, последнего) посоветовал бы ей и сам доктор, если бы неожиданно восстал из мертвых. Напротив, Мамарина, несмотря на всю эмансипированность, знавшая наизусть снотолкователь Бен-Зуфа и сонник Мильчевского, пустилась в долгие объяснения таинственных значений виденных Машей снов. Особенно почему-то ее раззадорила черепаха: выходило, что главный смысл сновидений был именно в ней, но при этом само ее значение от Мамариной как-то ускользало – выходило лишь, что видеть ее во сне было необыкновенно хорошо. Получилось так, что мы написали Маше два письма: Мамарина все больше о черепахе, а я, напротив, с практическими вопросами: цел ли дом, жив ли отец Максим и прочее. Впрочем, ответа ни на одно из этих писем мы так и не получили.
За прожитое в Петербурге время мы несколько раз встречались с Викулиным – сперва, едва только переселившись на Васильевский, Мамарина захотела сообщить ему наш новый адрес; через две-три недели он и сам пожаловал к нам: явился как-то под вечер, приодетый, принеся с вышедшей уже из обихода учтивостью коробочку конфект от Крафта, явно пролежавшую у него в закромах не год и не два. С видимым удовольствием оглядев нашу обстановку, он тяжеловесно пристроился в гостиной и просидел часа три, толкуя сплошь об отвлеченных понятиях: вспоминал о парижской поездке, рассказывал о былых негоциях, в том числе и с участием мамаринского папаши (отчего она неявно, но приметно для меня конфузилась), пытался вести разговоры со Стейси, которая, отвыкнув от мужчин, сперва дичилась, но после, сочтя его представителем хоть и чудного, но безопасного подвида человечества, согласилась переместиться к нему на колени и повадилась даже дергать за пожелтевшие от курения усы.
С того первого визита приходил он к нам три или четыре раза – и, между прочим, каждый раз с новой коробочкой конфект, что вызывало, по крайней мере у меня, некоторые смутные подозрения. Сама кондитерская была уже год как закрыта – неужели Викулин, предчувствуя это, в свое время сделал запас сладостей? О своих делах он рассказывал как-то скупо, да мы особо и не рас-прашивали. Не знаю, отыскал ли он в мутной воде наступившей жизни какие-то новые источники дохода, либо продолжал существовать на старых запасах (что, учитывая его предусмотрительность относительно сластей, было бы неудивительно), но практической стороны жизни мы до определенного момента вовсе в разговорах не касались. Единственный раз он упомянул, что ему удалось выхлопотать охранную грамоту на квартиру как ученому: оказалось, что по какому-то свежему большевистскому закону, по ходатайству Академии наук можно было получить право на добавочные две, а то и три комнаты. Хотя он никакого отношения к наукам, кажется, не имел, но смог, очевидно, нащупать и нажать какие-то таинственные рычаги, сложная работа которых увенчалась вожделенной справкой.
В очередной раз он пришел к нам в двадцатых числах мая. Было лучшее время года в Петербурге: длинные, светлые дни, сменившие наконец затянувшиеся дожди этой поздней, неуютной и безрадостной весны восемнадцатого года. Как раз накануне я снесла меняле очередной золотой червонец и сходила на рынок за припасами, так что у нас к чаю было и деревенское масло, и творог, и баночка меда. В этот раз Викулин, вручив традиционное приношение, не стал по обычаю прежних визитов погружаться в воспоминания, а сразу перешел к делу: оказывается, все это время он продолжал разыскивать способ выехать из большевистской России – и наконец такая возможность отыскалась. Один его знакомый, бывший прежде ходатаем по всяким не вполне законным делам, в нынешние времена совершенно расцвел, сделавшись в определенных областях лицом чрезвычайно влиятельным. Темные его дела требовали, в частности, свободного перемещения через государственную границу, которое ему обеспечивала семья финских крестьян, обитавшая вблизи Валкесаари. Жившие там испокон веку и знавшие в окрестностях каждый кустик и овражек,