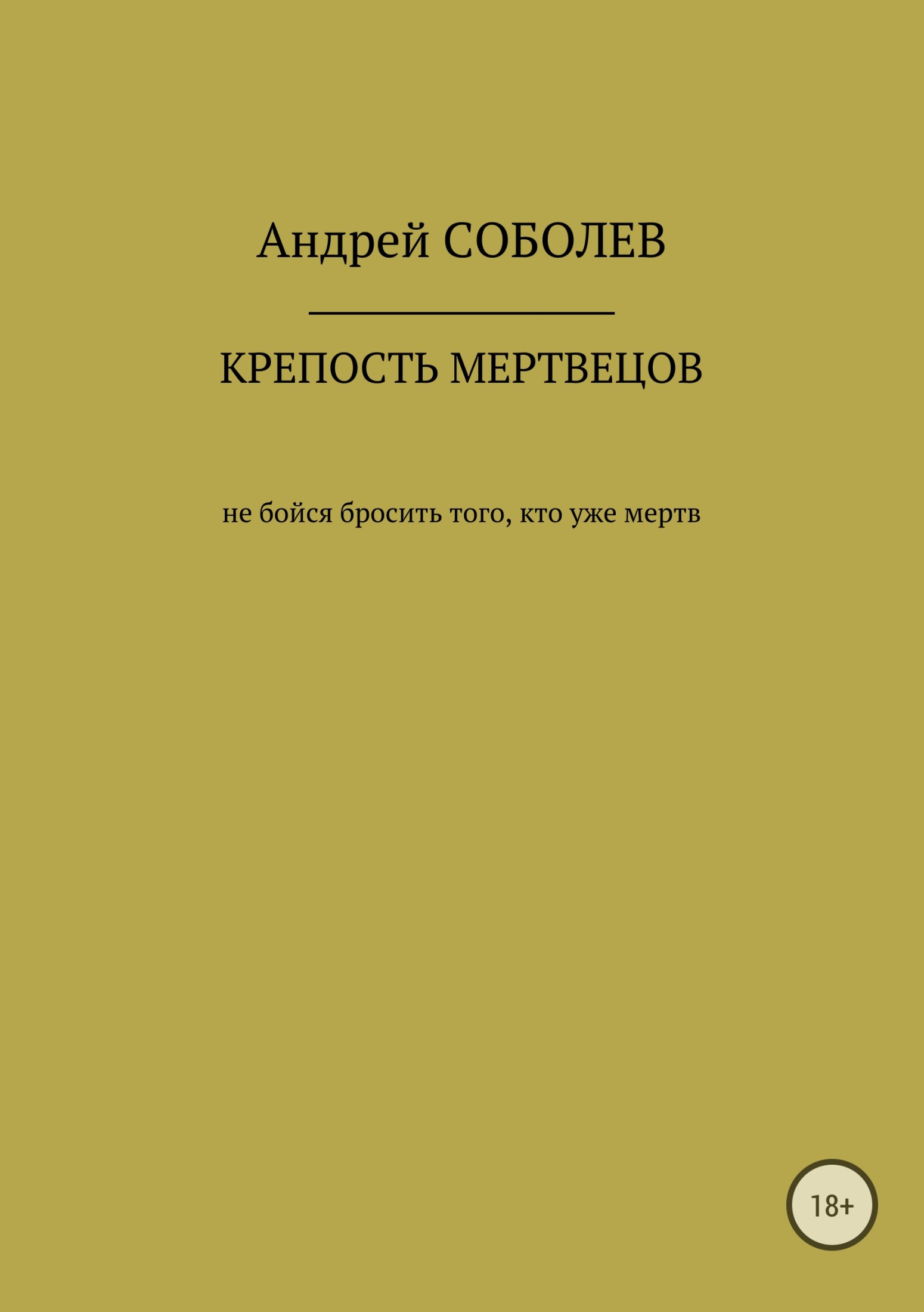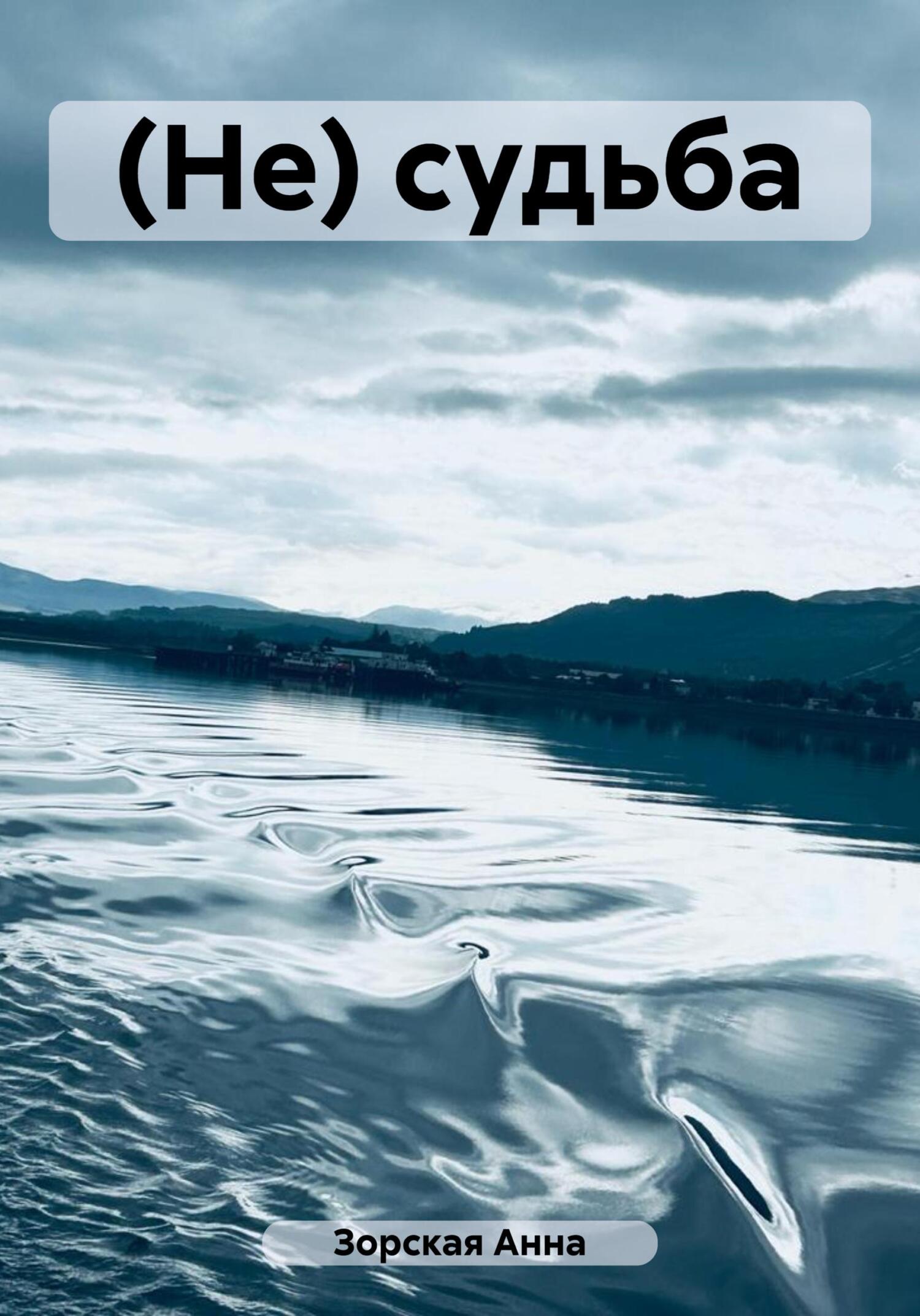о них? В любом случае, как советовал Монахов, я решила поторговаться.
– Как-то маловато, – протянула я задумчиво.
– Семьдесят пять. Больше уже никак.
– Даже не знаю…
– Ну слушайте, ну семьдесят пять арапчиков, – вылез вдруг похожий на кота, – ну побойтесь Бога.
Ах вот оно что. Слово это я откуда-то знала: так в определенных кругах называли золотую монету номиналом в десять рублей. Это было значительно выше моих ожиданий: шла я сюда скорее ради любопытства, и хотя, увидев тщательно скрываемое возбуждение антикваров, в глубине души отчасти уверовала в дары старика, на такую сумму вовсе не рассчитывала. Теперь важно было не показать этого и их не спугнуть: впрочем, проводя бо́льшую часть жизни в скрытности, вряд ли я могла бы спасовать перед этими простоватыми натурами. Еще немного поломавшись для вида, я с видимой неохотой согласилась. Толстый полез вдруг куда-то себе под пиджак, так что я подумала было, что у него от собственной щедрости прихватило сердце, но он всего-навсего извлекал из своих потаенных пазух ключ от несгораемого сейфа. Сам сейф, как оказалось, скрывался тут же, за одним из книжных шкафов, легко скользнувшим, несмотря на всю свою внешнюю незыблемость, вбок по незаметным рельсам. Оттуда были извлечены семь небольших увесистых колбасок и еще одна в половину прочих, после чего негоция совершилась, и я с удовольствием вышла наконец в морозный сумрак.
6
На вырученные деньги мы прожили в Петрограде несколько месяцев, ведя самую тихую и размеренную жизнь, которую только можно себе представить. Из меблированных комнат мы, конечно, съехали и наняли маленькую квартирку на Васильевском, рядом со Смоленским кладбищем. Удивительным образом оказалось, что одно из самых безопасных мест в неприветливой империи находилось неподалеку от главного логова дракона: по всей стране тысячи людей убивали, грабили и преследовали друг друга, в центре Петрограда демонстрации шли одна за другой, а у нас на Камской улице время как будто застыло в одном из последних годов перед несчастьем.
Прогуливаясь со Стейси по дорожкам кладбища, я размышляла о том, насколько совершающаяся история воспринимается по-разному свидетелями и потомками. Для нас эпоха Французской революции, как мы ее себе представляем, – это беспрерывно работающая гильотина, беснующаяся чернь, реки крови, самообладание Людовика и предсмертная мольба Жанны Дюбарри. Обыватель же, если бы мы каким-нибудь чудом смогли его расспросить об этих годах, вспомнил бы, как подорожала соль и что папаша Бриссо приноровился подавать в своем кабачке кислятину, сберегая хорошее вино доселе, как описано в Евангелии. Сейчас, когда о постигшей Россию катастрофе написаны десятки, а может быть, уже и тысячи книг, мне бы просто из принципа хотелось добавить в качестве свидетельницы что-то свое – но все вспоминается лишь о том, как безобразно вздорожала соль.
Но вот, впрочем, характерный эпизод. В первые дни после переезда на Камскую нам нужно было выправить какие-то особенные справки: прежде мы послали бы за тем же самым дворника в полицейский участок, но теперь непременно нужно было явиться самолично. Нужное учреждение (название которого было составлено по тогдашней моде из каких-то гавкающих слогов – «ряв», «рев», «губ» – и еще парочки) располагалось в милом двухэтажном особнячке на одной из линий того же Васильевского острова. Посещая его, важно было не только не думать о судьбе прежних хозяев (это само собой), но самое главное – найти того особенного чиновника, который был ответствен именно за ваш вопрос. Мыкаясь, как обычно, в клубах табачного дыма от одного кабинета к другому, мы вышли вдруг в полукруглую ротонду, каким-то чудом втиснутую архитектором в строгие формы типичного петербургского здания. Вдоль всей ротонды был натянут кумачовый лозунг; с места, на котором мы стояли, видно было лишь окончание фразы: «она ждет его».
– Вот смотрите, – остановилась вдруг Мамарина. – Вот вы говорите – большевики… но как же это романтично придумано: они здесь заключают браки вместо церкви и, чтобы поддержать, если кто-то в разлуке, напоминают… Ах, как хорошо.
Глядя на ее сияющее лицо, мне не хотелось ее разочаровывать, но поверить во внезапный пароксизм революционного прекраснодушия мне было мудрено. Мы обогнули круглый зал и стали между колонн. На красном полотнище было написано: «Буржуй хочет гильотины – она ждет его».
Чего мы ждали в Петрограде, я не понимала тогда, не понимаю и сейчас. Несколько раз я предлагала Мамариной вместе вернуться в Вологду, где, по крайней мере, у нас было несколько знакомых и, вероятно, крыша над головой – если дом не успели конфисковать местные власти. Почему-то это предложение каждый раз отзывалось в ней болезненным всплеском – глаза ее наполнялись слезами, и она шептала что-то вроде «нет, Серафима Ильинична, я туда не поеду ни за что, но вы, если хотите, конечно, можете отправляться». Удивительно, но оставались без ответа и все письма, которые сначала Мамарина, а после и я посылали нашим оставшимся в Вологде знакомым: открытка, отправленная по собственному адресу Рундальцовых на имя Клавдии, вернулась с пометой «адресат выбыл», письма отцу Максиму просто пропали, а Шленский (или кто-то из его подручных) прислал заполненный на машинке лист бумаги, в котором «тов. Мамариной» предлагалось «и впредь повышать свою профессиональную квалификацию», что, учитывая известный эпизод, выглядело – по крайней мере, на мой вкус – верхом неприличия.
Единственная пришедшая за эти полгода человеческая весточка была от Маши, вдовы доктора Веласкеса. Не совсем понятно, как она узнала наш адрес: может быть, все-таки письма, отправленные отцу Максиму, дошли до адресата? Но в один из дней почтальон передал нам голубоватый конверт, надписанный крупными полудетскими буквами, причем со старомодной учтивостью – «ее высокородию», все как в письмовнике Курганова. Впрочем, ничего о прочих наших знакомых в письме сказано не было: на двух листах, исписанных той же старательной рукой, рассказывалось лишь о собственной ее судьбе. Жила она с сыном Петром (о появлении которого нам уже рассказывал отец Максим) вместе со своими бездетными родственниками, помогала им по хозяйству и даже ходила на какие-то курсы машинисток – в общем, принимая во внимание ее печальное положение и общую смуту, можно было считать это вполне недурной участью. Но все это касалось дневной стороны жизни, а еженощно ее мучали тяжелые сны. Все они были так или иначе связаны с покойным доктором, отцом ее ребенка. Иногда он снился ей за какими-то обыденными делами, причем теми, которые обычно в их общие годы выполняла она сама: то стирающим одежду, то штопающим белье. Она во сне говорила ему: «Зачем ты это делаешь, давай лучше я», – и