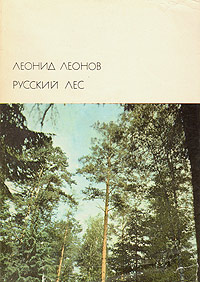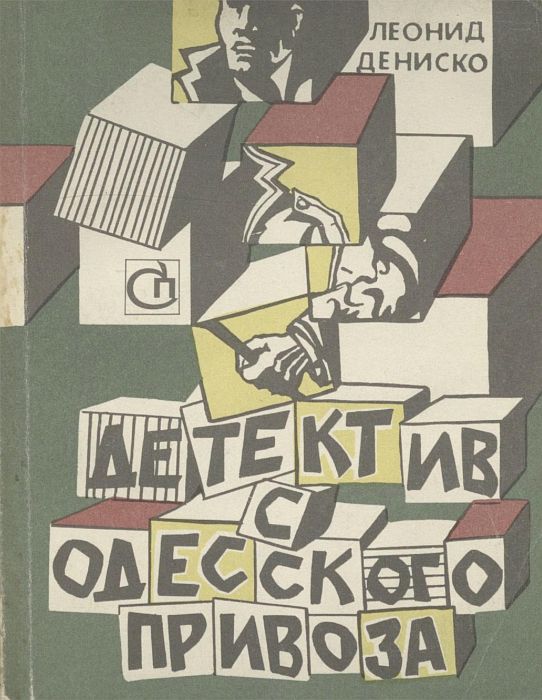сожалея о том, что в последний раз увидят глаза.
Внезапно наступило затишье, только шумел ливень, и маленькие фонтанчики били из каждого листка, из каждой травинки. Федор Иванович неторопко шел вдоль большой дороги; идти было тяжело и скользко. Старость, боже мой, старость! И мысли о смерти от старости, хотя всю жизнь говорил о ней, но то было от великой любви к бренному, прекрасному бытию, которому скоро придет конец. Не от грозы же, конечно… Но и умирать в постели Федору Ивановичу не хочется: доктора, слуги, звонки, лекарства… Федору Ивановичу уже под семьдесят, он любит жизнь невыразимо, даже в стихах своих, в которых одна лишь тень от чувствования…
— Когда это я написал, что люблю грозу в начале мая? — спросил он себя. — Не помню… А как любил! Геба, кормя орла Зевесова, проливает на землю кубок…
Ударил гром. Федор Иванович вспомнил, как назван был тот кубок: громокипящий!
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
Федор Иванович остановился на середине дороги; дождь — косой и крупный — бил его по лицу, бокам, коленям; Федор Иванович вдруг припомнил всю молодость свою — вот так, как припоминает ее умирающий, — молодость возникла перед ним подобно молнии, задержанной смертоносным взором.
— Смеясь, пролила, — прошептал он, откидывая голову от бьющего в глаза света. — И это я искал хаосу выражение и легкомысленно писал о стихии. А теперь я стар, и стихия меня не пугает, и я полюбил закат, день, меркнущий тихо. Смеясь, пролила…
Неожиданно просветлело, квадратик синего неба блеснул, словно наверху растворили ставни, и глянуло солнце и победно залило дорогу, лес и множество впадин, наполненных дождем, засверкало весело и ярко. Федор Иванович тихо побрел по дороге, чувствуя во всем теле блаженство и невыразимое словом состояние причастности всему живому.
Что-то белое мелькнуло сквозь низкий кустарник, некое воспоминание взволновало Федора Ивановича. Он перешел узенькую канаву, раздвинул мокрые, тяжелые ветви орешника и вскрикнул, прижимая обе руки к груди. Перед ним был низкий, весь в цветах холмик, а на нем крест, на кресте дощечка с надписью:
НЕРАЗЛУЧНЫЕ В ЖИЗНИ,
МЫ НЕРАЗЛУЧНЫ И В ЗЕМЛЕ.
МЫ МНОГО ЛЮБИЛИ И ЛЮБИМ ВЕЧНО.
Елена и Алексей
Макаровы
Федор Иванович упал на могильный холмик и глухо, по-стариковски, зарыдал. Все чужие могилы напоминали ему одну — дорогую, свою. Та женщина, которую он любил так долго, много и трудно, умерла, а он живет, думает, ходит, он хочет забыть и не боится помнить. И, обнимая крест на чужой могиле, Федор Иванович с мольбой глядел в глаза молниям и твердо знал, что ему нет смерти от своей руки, как нет смерти и оттуда, сверху, где ветреная Геба проливает громокипящий кубок. И ему, старику, еще жить и жить и всегда нести в себе память о неистребимой, мучительной, стихами даже невыразимой любви. Даже стихами!
Даже стихами, некогда выражавшими и определявшими хаос и стихию…
2
Гроза не затихала всю ночь, и утром западная сторона неба была неподвижно-лилова, а с востока благодатно и мирно светило солнце, и, быть может, потому, что с одной стороны все было спокойно и лазурно, полно движения и блеска, а с другой тревожно и пасмурно, может быть, именно потому Федор Иванович чувствовал себя нехорошо, неспокойно. Он поглядывал на лиловый край неба и сердито говорил:
— Пойми вот, куда все это движется! И опять с запада!
— Стороной пройдет, Федор Иванович, — сказала хозяйка дома, петербургская барыня, почитательница поэтов, певцов, музыкантов. — Видите, сколько синего неба! Оно победит.
— Побеждает лиловое, это вы запомните, — сердито произнес Федор Иванович. — Я заметил, что грозовые тучи всегда идут с запада. С севера — мокропогодица, с юга — ветер, с востока — духота. Можете не спорить!
— Не спорю, нет, не спорю, во всем согласна с вами! Но синее небо откуда же, Федор Иванович?
— Синее небо? Оно с востока. Небо очищается с востока. Значит, вот эти лиловые тучи встанут над нами, и опять загремит, как вчера. Ну, а потом гроза, конечно, кончится. И заметьте, что небо будет очищаться с востока. С детских лет наблюдаю я это.
— И не было, Федор Иванович, исключений?
— Исключения всюду. Правилом жизни является тяжесть, ноша на плечах смертного, исключение — поэзия. Она берется утверждать, что без этой ноши, без этой тяжести нет жизни. Это и есть единственное исключение, оно не для поверхностного ума, ибо уж чересчур тяжела жизнь, что весьма, согласитесь, тривиально. Поэзия — ласточка, в хорошую погоду жизни она летит выше и быстрее, ее корм — под небесами. Да… Смеясь, пролила. Господи! А вы зачем слушаете старика?
— Я слушаю вас потому, что вы говорите, и еще потому, что не слушать вас невозможно.
— Еще чуть-чуть — и получится нечто, похожее на стихи. О чем я? Да, в мире жить трудно и больно. Больно мне, и никто меня не переубедит. Нет врачей от моей боли. Вы знаете, вы были другом моей…
Плед скатился с колен Федора Ивановича и упал на пол, вспугнув борзую, задремавшую подле скамеечки, на которой покоились ноги в мягких прюнелевых ботинках. Руки упали и повисли вдоль хилого тела. Из глаз брызнули слезы. Хозяйка подбежала к гостю, упала на колени, в руки свои взяла руки гостя, положила их себе на плечи и низко склонила голову, чтобы плачущий гость не увидел, как плачет и она, друг его, гостя, и близкий человек той, которая много лет назад умерла, но все еще жива в сердце и памяти Федора Ивановича.
— Не надо плакать, к чему? — тихо произнесла женщина и поцеловала, приподняв с плеч, сперва правую, потом левую руку гостя. — Слезами не вернешь.
— Слезами-то и вернешь, — четко и раздельно, по слогам, проговорил Федор Иванович. — На что ж иначе слезы? Для умиления? Нет, для умиления есть простые, серые слова, и они доступны каждому. Для горя? Нет, горе молчаливо. Слезы мои — это кипящая память, это средство сохранить, не утерять, вернуть. Вос-кре-сить — потому что, если я помню, — значит, ничто не умерло. Встаньте, я вас прошу, встаньте! Смотрите, Дианка насплетничает! Она вертит хвостом, она меня не любит.
Он не выдержал, он мотнул головою, скрипнул зубами, горячо заговорил:
— Она любила собак. Всех домашних животных любила она, кроме кошек. Она говорила, что в кошке есть что-то нерусское, чужое и злое. Она еще любила меня. Господи! И похоронить эту