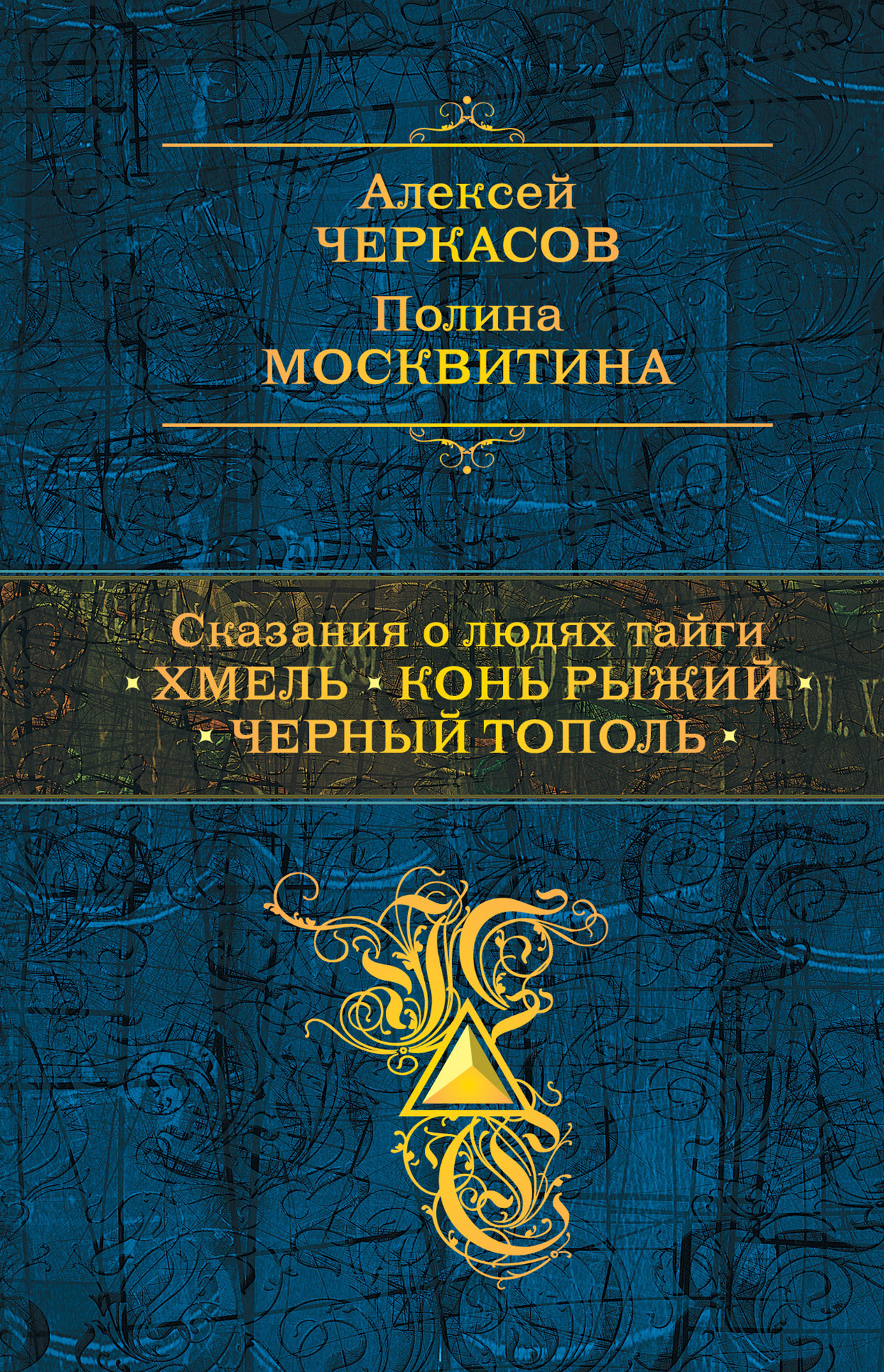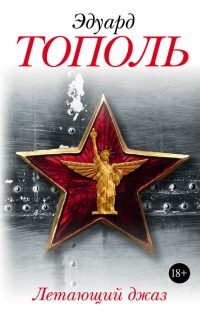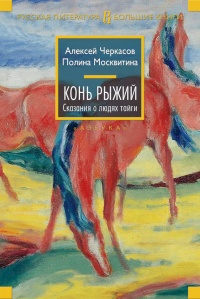вы опять с ней не поделили?
– Можно мне у вас… чемодан оставить?
– Чемодан?! – Маремьяна Антоновна подумала минуту и, польщенная доверием, сменила гнев на милость. – Отчего же не можно?… Можно. И сама побудь. Хошь в горнице у меня побудь… Располагайся. Может, олух энтот маленько встряхнется… Замордовал он меня, леший! Ох, грехи, грехи! – И пошла в горницу, опустилась на колени перед иконами. – Стану я, раба Маремьяна, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, под светел месяц, под луну Господню, под часты звезды, – бормотала она, усердно кладя поклоны… – На киян-святом море стоит святая церква, в той церкве стоит злат престол, на том престоле сидит мать Пресвятая Богородица со всеми ангелами, со всеми со архангелами, со всей силой небесной: Иваном Предтечей, Иваном Богословом, Иваном Златоустом… Все отцы-пророки, молите Бога за нас…
Вернулся Мамонт Петрович с паяльной лампой.
– Вот принес, – буркнул он.
Маремьяна перевела дух, поднялась, ухватившись за поясницу. На лбу у нее выступила испарина.
– Полегчало? – кинул Мамонт Петрович, взирая на нее исподлобья.
– Иди, зови Михея. Резать надо. Неуж я опять сама должна?!
Завязь десятая I
Худое было настроение у Мамонта Петровича, когда он утром пришел на племенную конюшню колхоза. В неизменной потрепанной телогрейке Мамонт Петрович шел таким давящим шагом, что конюх Михей Шумков по одной его походке догадался, что заведующий конюшней не в духе, подходить к нему с разговорами в такие минуты было крайне рискованно.
Михей Шумков прибирал двор конюшни.
Караковый мерин с лохматыми бабками, переминая ногами, стоял у коновязи. Мерин леспромхозовский. На нем ездит Анисья.
– М-да! – кашлянул Мамонт Петрович.
В стойлах лениво жевали овес племенные жеребцы и кобылицы. За первые послевоенные годы конюшня значительно поредела; много незанятых перегородок с кормушками, но и то, что осталось, не в каждом колхозе имеется. Не будь Мамонта Головни, навряд ли объединенный колхоз «Красный таежник» имел бы и такую конюшню. Мамонт Петрович заботливо выращивал лошадей, которых он считал по достоинствам на втором месте после человека.
– Эх-хе-хе, мученики! – покачивал головою Мамонт Петрович, остановившись возле вороного иноходца со сбитыми плечами – Юпитера. – Не Лалетину на Юпитере ездить! Ему бы свинью в упряжку. А ты, Юпитер, будь смелее! Бей его копытами, хватай зубами, отстаивай жизнь в непримиримой борьбе с негодяями! Что он с тобой сработал, а? Плечи в кровь избил, и на передок жалуешься.
Юпитер скосил глаза на Мамонта Петровича и, будто понимая, потянулся к нему мордой, положив голову на плечо хозяина.
Так они постояли минуты две. Юпитер от удовольствия прижмурив глаза, а Мамонт Петрович от негодования матюгаясь сквозь зубы на председателя колхоза Павла Лалетина.
Или вот Марс, пятое стойло слева. Марс – гнедой рысак с тонкими ногами, помесь арабской лошади с орловской породой, хваткий на зачине. Как почует вожжи, рванет, ну, кажется, будь закрытыми ворота, сиганет птицею через ограду. Что стоит один взгляд Марса. Так и стрижет белками. Иссиня-голубоватые белки перекатываются в глазницах. А хитер, мошенник! Стоит гнедому почувствовать под ногами избитую проселочную дорогу за деревней, как хвост у него обвисает, голова клонится книзу, и он из крупной рыси переходит на ленивый шаг: «Знаю, мол, торопиться некуда!»
Характер Марса выработался в поездках бывшего председателя колхоза Гришина. Ленивый, пухлощекий и всегда сонный, любящий показать товар лицом при районном начальстве, Гришин обычно, когда оставался один, отпускал вожжи и храпел всю дорогу. Марс завозил его куда-нибудь к зароду, к полевому стану и там спокойно отдыхал, покуда Гришин всхрапывал. Но стоило Гришину завидеть деревню, он вдруг преображался, нахлестывая Марса, что называется, в хвост и в гриву.
А вот и гордость колхоза – пара вороных: кобылица Венера со звездочкой и жеребец, единственный чистокровный рысак, названный Звездой, вероятно, потому, что в расходе были наименования всех планет, известных Мамонту Петровичу. Красноглазые, стройные, мощные лошади! На Венере и Звезде изредка выезжает сам Мамонт Петрович в Каратуз. Не один раз зарился на них Павел Лалетин, скандалил с заведующим конюшней, но последний поднес Лалетину кукиш, на чем Лалетин и успокоился.
– М-да, – крякнул Мамонт Петрович. – Когда Лалетин из Минусинска вернулся?
– Да вроде на зорьке.
– В себе или как? На взводе?
– Под хмельком. Но не так чтобы очень.
– Гм! Кто принял от него Юпитера?
– Дык я, Мамонт Петрович. Плечи сбиты, и так весь в мыле.
– М-да. Акт требуется составить. Разберем на правлении.
– Дык председатель же, какой акт?
– Для свистунов, Михей, нет указания правительства относительно поблажек, – сурово загремел Мамонт Головня, подкинув пальцем свои рыжие усики. – Перед законом советской власти все равны – Лалетины, Вавиловы, Шумковы, председатель, секретари райкомов, горкомов! Все отчет должны держать за свои поступки, а так и по поводу своей жизни. До каких пор я буду внушать тебе, что каждый на своем посту – президент, а не шайба от винта. Имей в виду, последнее замечание.
– Имею. Но все ж даки, как там ни говори… А где же конюху заставить председателя колхоза подписать акт?
Михей Шумков раздумчиво поскреб пальцами в сивой бородке.
А вот и Анисья.
– Что ты такой хмурый, папа?
– А вот глянь, что наделал Лалетин! Гвардии лейтенант, при орденах! Ухайдакал Юпитера за одну поездку! Откуда такое происходит, ты мне скажи? От души, в которой на прикурку огня не добыть. Вот против нее и двинем новую революцию. Изничтожать надо этот срам под самый корень… – И пошел по ограде, воинствующий, непримиримый, каким его знала дочь. II
Поздним вечером Анисья сошла с крыльца конторы колхоза, следом за нею отец – хмурый, вконец расстроенный от перепалки с Павлом Лалетиным из-за Юпитера.
Вышло так, что вопрос Головни на заседании правления колхоза вызвал всеобщий смех; Лалетин отделался легким испугом, делая вид, что на чудака Головню не стоит обращать внимания. Тогда Головня потребовал немедленную ревизию кассы колхоза, говоря, что с кассой творится что-то неладное. «Откуда ты берешь деньги для горла? – орал он. – Не из нашей ли кассы? Через какие дивиденды заливает себе за воротник Фрол Лалетин? Не от доходов ли Никиты Мансурова, пчеловода на третьем номере пасеки? Ревизию! Требую ревизию!» И опять Мамонту Петровичу ответили всеобщим смехом. Вопрос стоял о выделении рабочей силы леспромхозу, о сеноуборочной, о прополочной кампании, подъеме паров, а Головня заговорил о ревизии. Между тем сам Павел Лалетин менее всего хотел бы, чтобы именно сейчас началась ревизия кассы колхоза и тем более третьего номера пасеки, где удачно приземлился зять Фрола Лалетина. На пасеке не все было