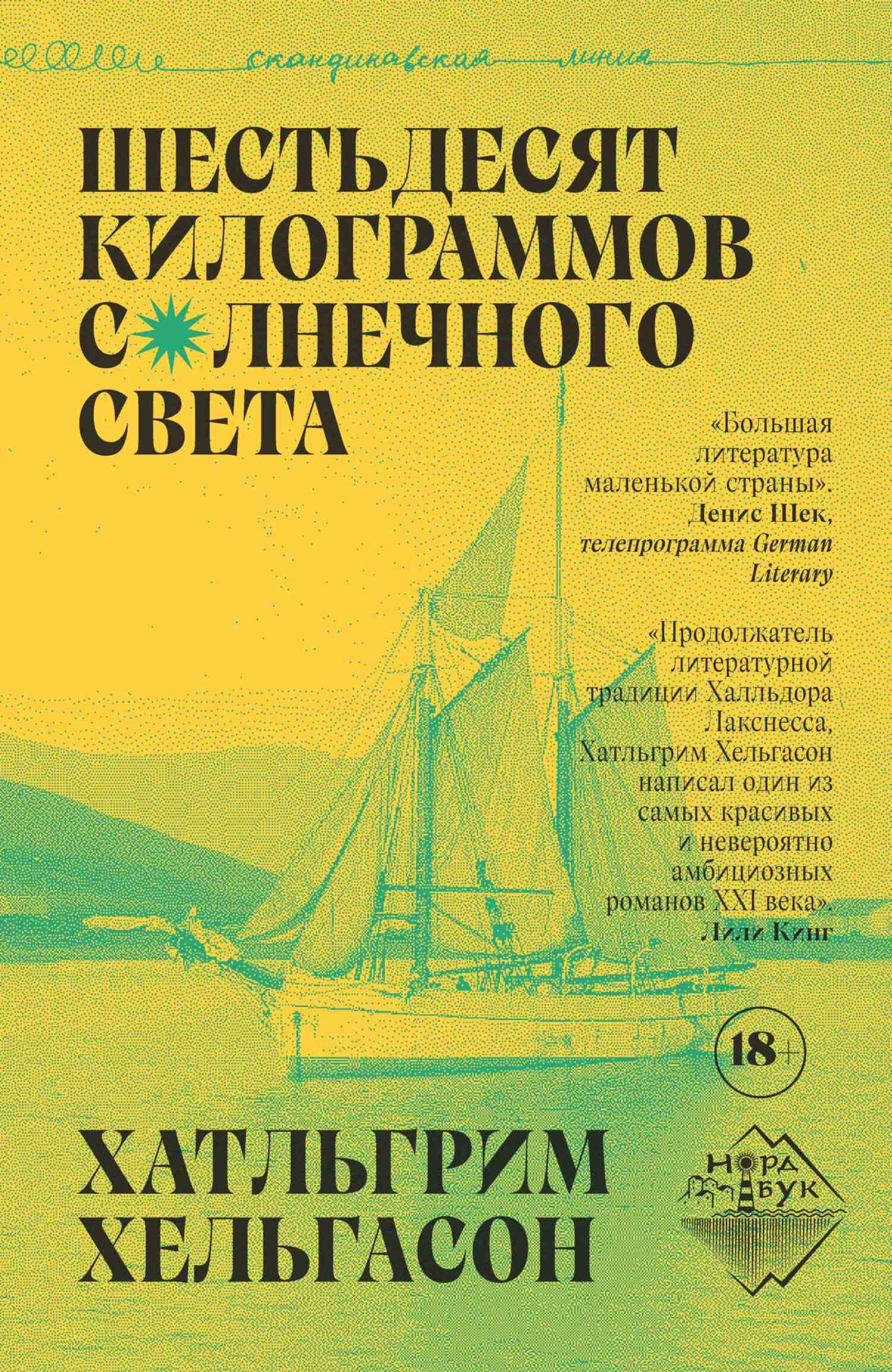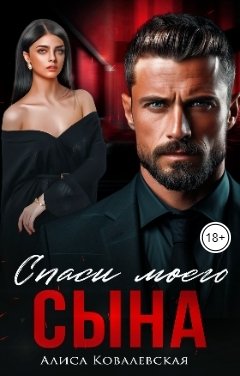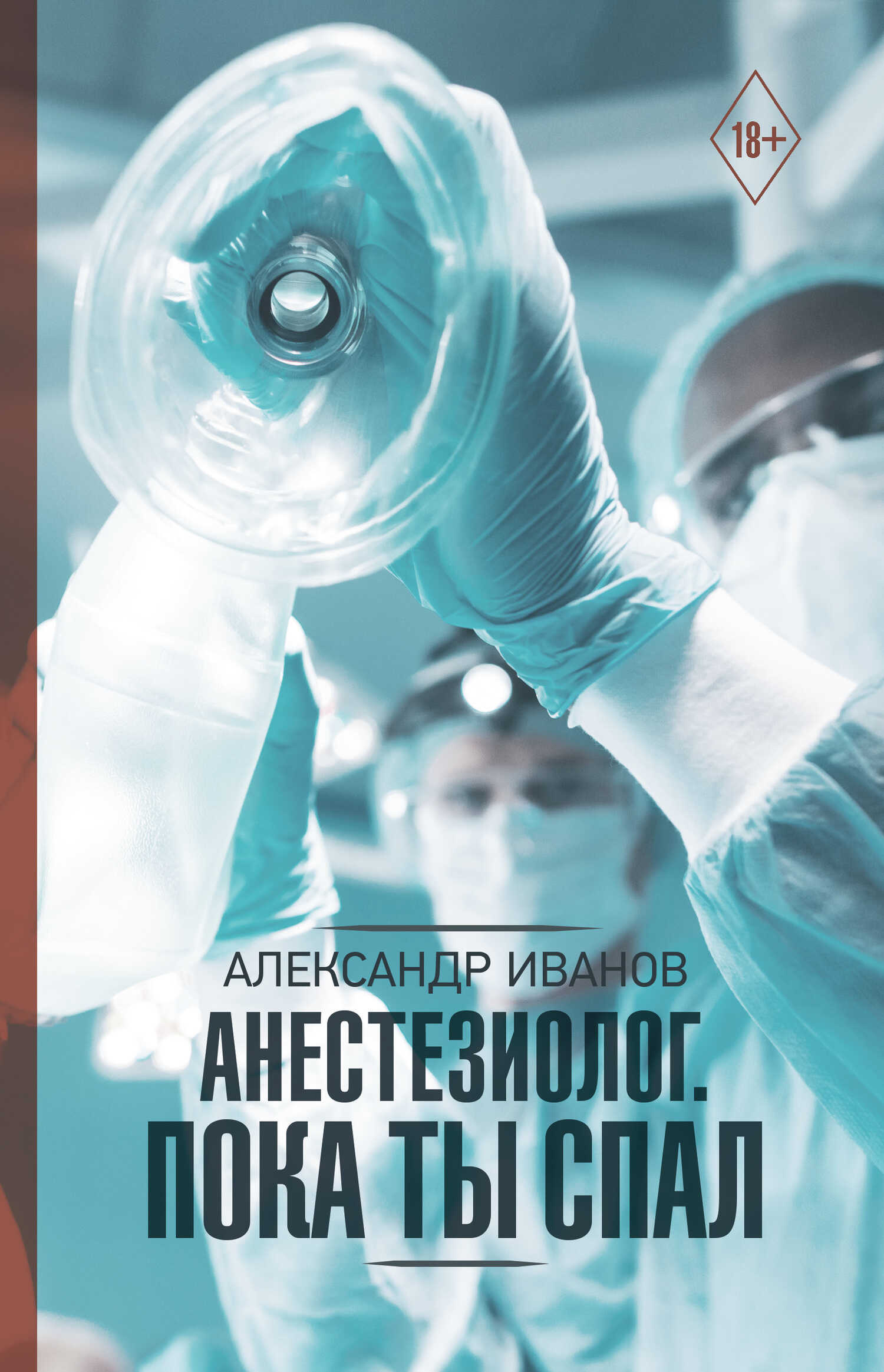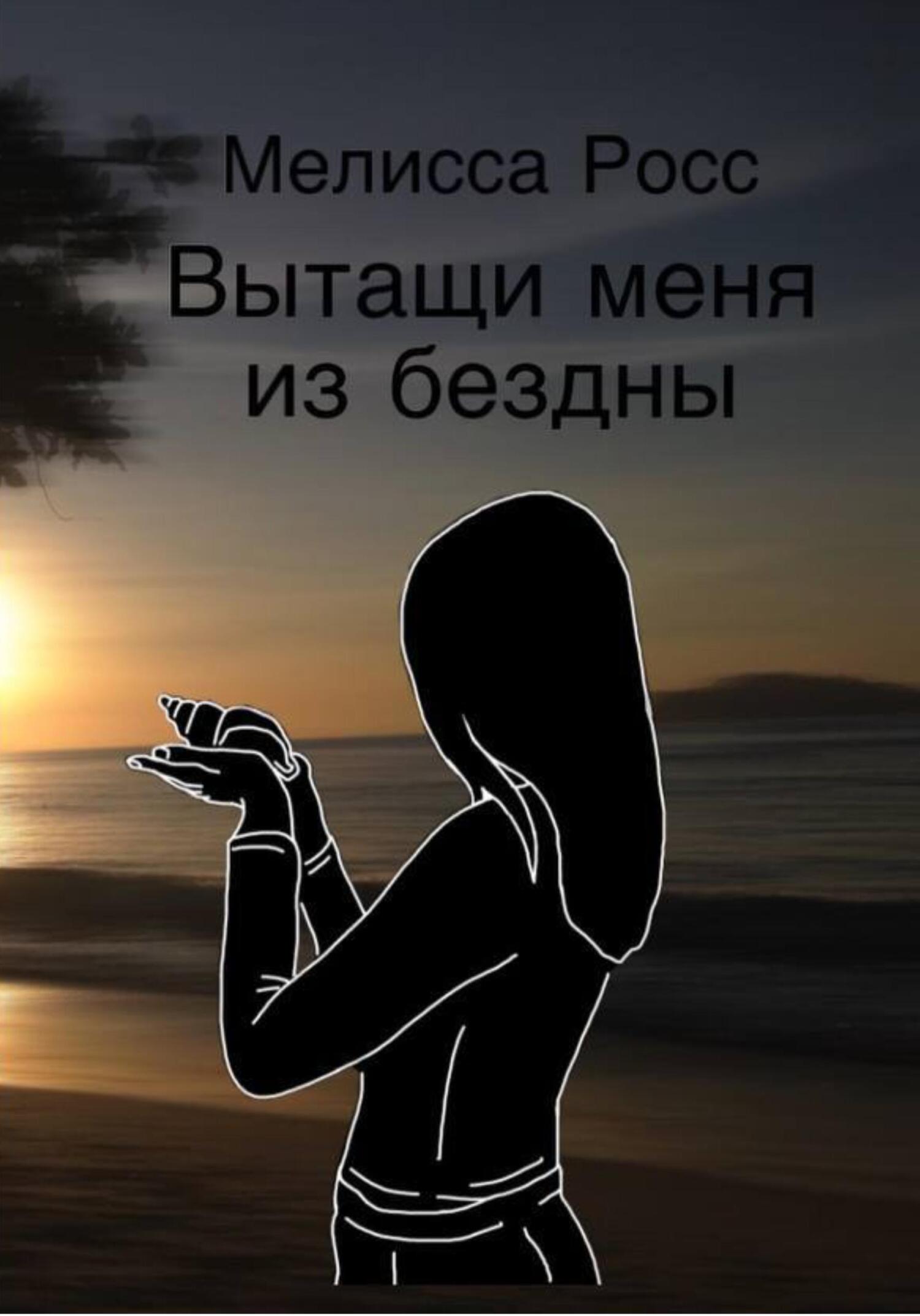был плохим?
Почему я не отпал от ереси, на моих глазах распявшей троих?
Вероятнее всего, это было какой-то смесью упрямства и трусости. Я не решался и не хотел заглянуть в глаза собственному самообману, своим ошибкам. А может, это была всего лишь откровенная глупость? Ведь все мы были достаточно глупы. Полезные невинности. Скандинаивисты. Тоурберг обещал, что повесится, если Сталин заключит союз с Гитлером. Конечно же, этим его словам верить было нельзя – как и всему остальному, что он изрекал, этот болван проваренный.
Я встретился с Леной вечером в ее комнате в районе Арбата; времени, что я пробыл у нее, хватило, чтоб пять раз сказать «увы» по-датски. Она ответила, что все понимает, а потом неудержимо разрыдалась и упрекала сама себя за это по-шведски. И кусала губы. Как могла такая женщина попасть в эту дьявольщину? Как, скажите на милость, эта наяда угодила в этот лабиринт зла? Она поехала в Испанию (тогда там было интересно заботиться о раненых на войне против Франко), а оттуда – в Москву в Ленинский институт, где и познакомилась с Акселем Лоренсом. Он обвинялся в троцкизме, она – в шпионаже. После тридцати часов пыток так называемой «ногтедавилкой», коминтерновский начальник Кристьяуна назвал его имя, чтобы хоть что-нибудь сказать. В надежде, что ему оставят ноготь на безымянном пальце. Свидетельствами против Лены были ее институтские конспекты. Она была девушка совестливая и отличалась тягой к знаниям, но ее почерк показался подозрительным: слишком какой-то буржуазный. В тюрьме она оказалась сильнее, чем мы думали: просидев на одном и том же стуле шесть суток кряду без сна и еды, она все равно не сломалась. И даже тогда, когда ее связали по рукам и ногам, оставили так на четыре часа и стали щекотать в носу пером. Если верить Солженицыну, это весьма коварный метод, очень мучительный: как будто тебе сверлят мозг. Шведская ученица аккуратно вела свои конспекты, она не могла возвести на них напраслину. В конце концов именно буржуазное воспитание и погубило ее. Она не могла сказать неправду. Даже ради того, чтоб избавить себя от гусиного пера в носу. Лена Биллен окончила свою жизнь в сибирских лагерях – вероятнее всего, в 1942 году – после недолгого пребывания в советской тюремной камере. Маленькую Нину держали под стражей, чтоб с помощью нее выбить из матери признание, но на допросах она отказывалась сотрудничать. Но это постепенно стало улаживаться, когда она подольше побыла в тюрьме и лучше научилась говорить.
Советская власть хорошо относилась к детям.
«Смерть одного – это трагедия, смерть миллионов – статистика». А я познакомился с тремя смертями. Три маленькие пылинки, которые вымели при великой Чистке. Согласно последним данным КГБ, всего таких было 4,2 миллиона. СССР: блаженное царство гибели, которое зиждилось на мертвом учении покойника. Его труп был главной жемчужиной страны, его могила – самой популярной туристической достопримечательностью; на крыше Мавзолея было самое почетное место в государстве: там стоял тот, кто убил больше всех и кого почитали те, кого ему еще только предстояло убить. На съезде партии в 37-м его приветствовали 1900 вновь избранных представителей. Через год половины их уже не было в живых. Чем ближе к вождю были люди, тем больше возрастала опасность для жизни. Каждое повышение в чине равнялось смертному приговору. Ответственные должности занимали одни лишь мертвецы. В конце концов тело народа оказалось набальзамировано не хуже Ленина.
Вечером 10 мая 1938 года я вышел на центральном вокзале в Хельсинки и впервые понял слово «свобода», и погладил себя по голове. Волосы у меня поредели. На Эспланаден девушка в поперечно-полосатой футболке, похожая на студентку художественного вуза, продавала мороженое. Она сжала плечи и улыбнулась собственной неуклюжести жесткими финскими ямочками на щеках, подавая мне мороженое. Скорее всего, она торговала им первый день. Она была в меру красива, и я помню, как радовался при мысли, что она может после работы пойти домой, и за ней никто не будет следить, а вечером заснуть – и ее сны не будут разбирать назавтра на собрании правления. Но я быстро все забыл. Восемнадцать месяцев спустя Красная армия устремилась на площадь Эспланаден, а я своим пером призывал финнов показать ей дорогу.
ПОЧЕМУ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ВСЕ ПОШЛО ИМЕННО ТАК?! Как могла наша гуманная мечта о справедливом распределении богатств обернуться этим кошмаром? Коммунизм всегда заканчивался тиранией. От Кубы до Кореи и до Китая. Революции живут десять лет. Через десять лет после Французской революции Наполеон стал императором. Через десять лет после русской революции Сталин стал императором. Через сорок лет после кубинской революции Кастро – все еще император. Но порой в доме престарелых я встречал молодых пареньков, временно работающих в прачечной, которые просили меня, старика, подписать им книгу, и их глаза зажигались блеском, когда они заявляли, что они «тоже» коммунисты. Дети – они будут всегда.
Коммунизм с первого дня носил в себе смерть. Кто борется с несправедливостью путем оправдания убийства – сам его заслуживает. Коммунизм – это фашизм, замаскированный под любовь к ближнему. В этом вся разница. Сталин достиг бо́льших высот в искусстве пропаганды, чем Гитлер. Адольф говорил: власть над миром. А у Иосифа это называлось: мир во всем мире. Но Гитлер был человеком более светским, чем неотесанный мужлан Сталин, проводил свои убийства более стильно: велел убивать людей за расу и сексуальную ориентацию. Коба осуществлял свои убийства невзирая на лица. Довольно-таки долго мы оправдывались тем, что выбрать Сталина нам велела эпоха – для борьбы с Гитлером. Мы поддерживали черта в борьбе против его же бабушки.
Как могло так получиться? Я много-много лет ломал над этим голову. И все равно не понял. Ближе всего к разгадке я подошел в «Кафетерии» на Лёйгавег более десяти лет назад после моей собственной Чистки, моей собственной дезинсекции. Я встречался с Бьёртном Лейвссоном, отличным малым, сорок лет бывшим передовым в партии социалистов. В тот день девушки в «Терии» были необыкновенно бодры, и хотя мне шел уже шестой десяток, я оставался некоронованным мастером флирта с официантками. По-моему, им со мной было весело. Йоуханна была эдаким пышным тортиком, и она принесла мне добавку кофе, все еще смеясь над какой-то остротой с Фру на кассе, и она поставила чашку на стол, а потом сказала:
– Ой, простите, вы же хотели с молоком, да?
– Нет-нет, не стоит, гораздо лучше – с твоим смехом…
– Что? Да, ха-ха-ха, нет-нет, я схожу туда молока налью.
И она