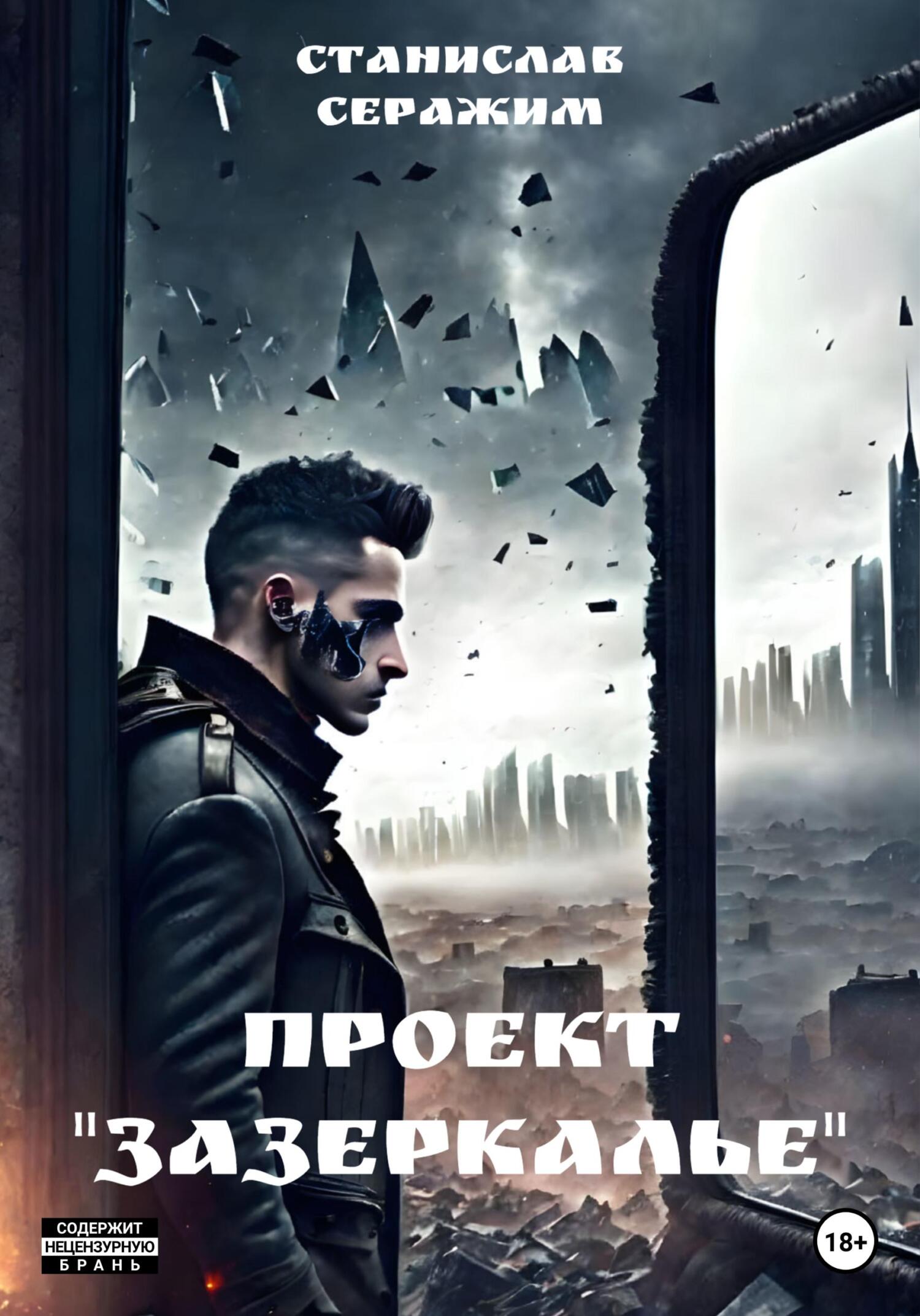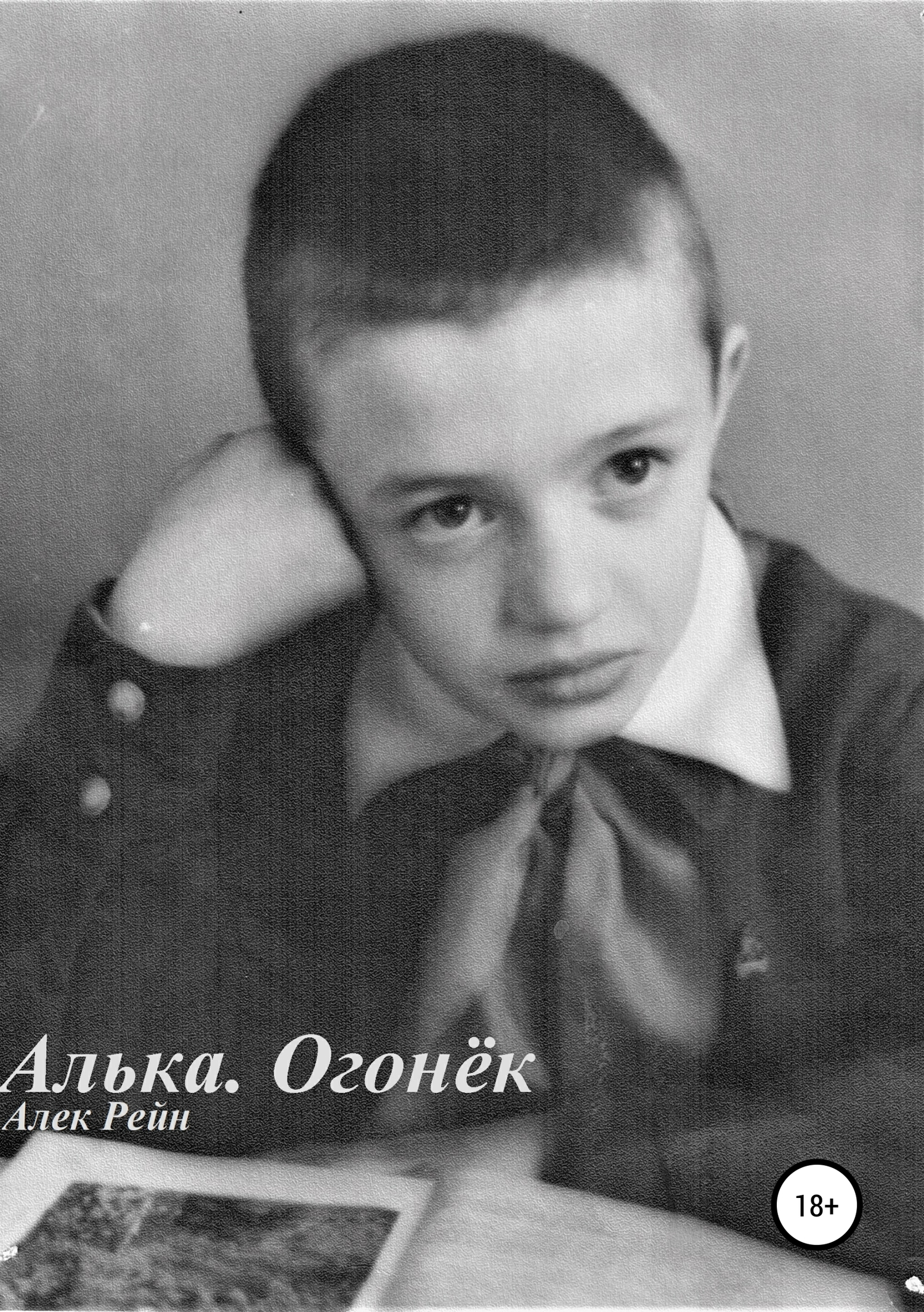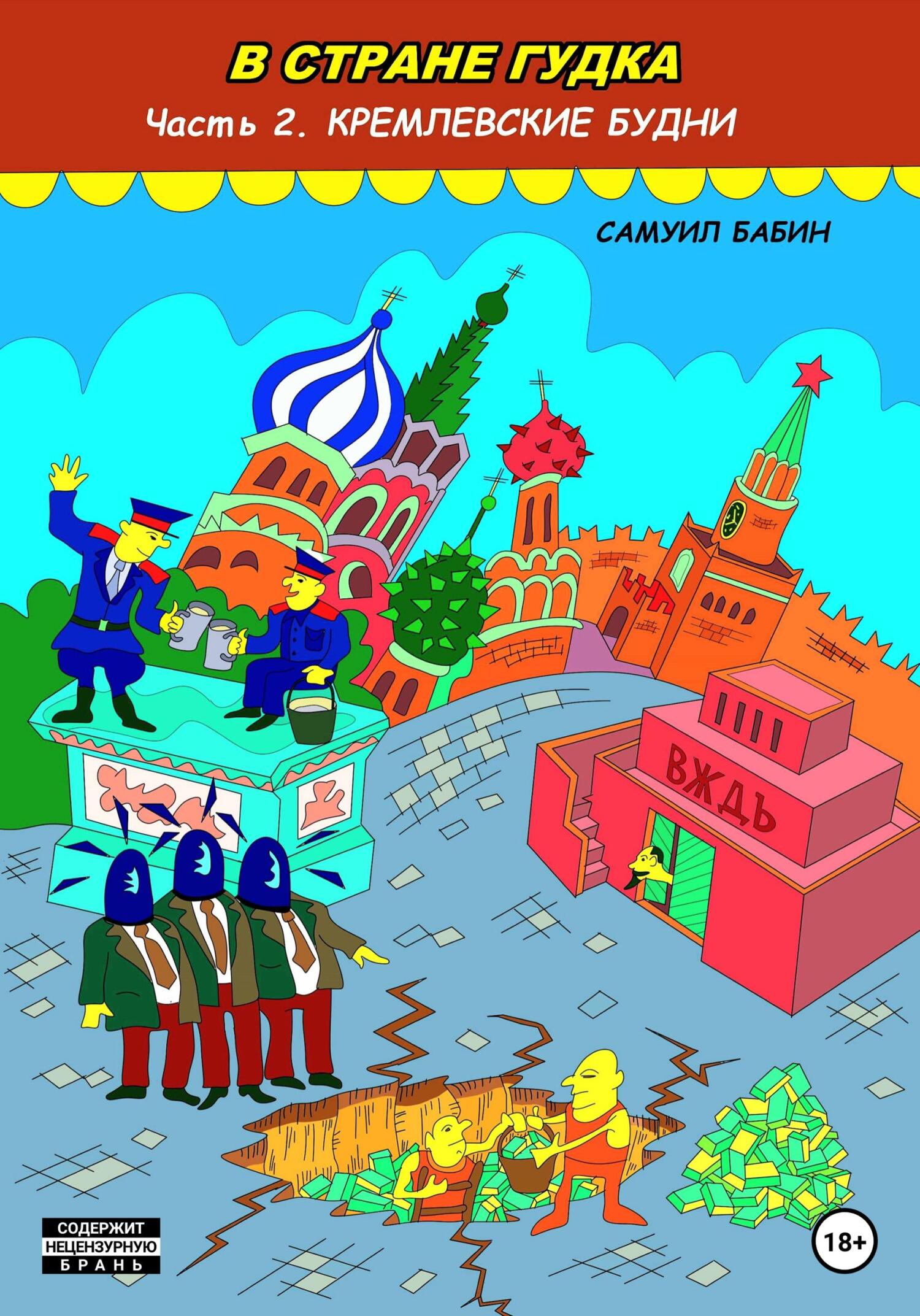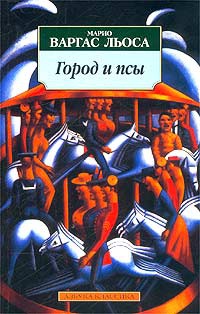и ржавеют, а для других нужд не хватает металла: фонды иссякли. Ему прибыль и слава, а заводу?
— Но... — Никритин растерянно пригладил волосы и взглянул на портрет. — Честное слово... не задумывался... Мне казалось, прогресс техники есть сумма усилий передовиков.
— Это не совсем так... — Бурцев закурил, глядя при этом на Никритина. — Здесь как в армии. Тот солдат хорош, который понимает общий маневр. Все нарастающая интенсивность выработки полезна, когда дается конечный продукт: зерно, уголь, нефть, ткани и так далее. А если вы стоите в потоке? На кой шут мне, скажите, переизбыток детали «037», если ее некуда приладить? Главное в потоке — синхронность. И синхронизатором должна быть сборка, главный конвейер. Отдельные рекорды ни на метр не сдвинут конвейера, коль остальные участки работают в ином темпе. А ему вот... — он вновь обернулся к Ильясу, — все не терпится, все хочется быть «на уровне времени»!..
...Нанося очередной штрих на бумагу, Никритин взглянул на Ильяса. Переводя глаза с Афзала на Султанходжу-ака, тот рассказывал о своем отце и, мешая работе Никритина, хмурился.
Да, отец Ильяса, секретарь партийного комитета завода, тоже вернулся из отпуска, с курорта, и, как говорили, присоединился к Бурцеву в критике самостоятельной деятельности сына на посту директора. Никритин не вполне уяснял себе эти управленческие споры и расхождения. Но как бы любовно-пристрастно, по-художнически заинтересованно ни относился к Ильясу, он не мог не заметить, что атмосфера на заводе в последние дни переменилась. Вдруг почувствовалась твердая хозяйская рука. Реже собирались возле него праздные зрители, даже Надюша прибегала лишь в конец смены — одним глазком взглянуть, как созревает портрет. Жестче сделался ритм работы. Не стало часовых перекуров. Прекратились поездки на рыбалку в будние дни. Перемены коснулись и Никритина. Появился наконец начальник отдела снабжения и сбыта, о котором уши прожужжал Шаронов: «Кахно — это же личность! Не будь дураком и припри его с договором до окончания портрета, а то потом наплачешься».
Заложив руки в карманы и покачиваясь в пяток на носки, личность разглядывала портрет. Никритин покосился. Черный строгий костюм. К лацкану привинчен орден Ленина довоенного образца. Бритое лицо в крупных морщинах. Лицо старого актера.
— Это, конечно, не Пиросмани... — изрек, помедлив, Кахно. — Но глаза вы имеете...
— Вы знаете Пиросманишвили? — изумленно обернулся к нему Никритин.
— Аллаверды! Я знаю ли!.. — качнулся Кахно. — В Тифлисе, в духане «Олимпия»... А, да что говорить! — Он вынул руку из кармана и безнадежно махнул ею: — Расхватали, наверно, растащили...
Никритин молчал, ожидая продолжения. И Кахно доверительно сказал:
— Вы не смотрите, как я сейчас выглядываю! В моей лиловой в золотую крапинку биографии был кошмарный случай — пришлось по дешевке отдать два подноса, расписанных Пиросмани! Брильянтик мой, Пиросмани — это сон жар-птицы! Учитесь!..
— Постараюсь... — сказал Никритин, присматриваясь к нему и подавляя улыбку.
Что за колоритные люди на заводе! Встретить в городе — и пройдешь мимо. А ведь это — клад для художника!..
Перестав покачиваться, отчего в лице его что-то неуловимо изменилось, суховато-деловым тоном Кахно сказал:
— Мы не цари Ироды, истреблением будущих пророков не промышляем. Но решение руководства, брильянтик мой, абсолютно: берем картину только после обсуждения в цеху. Миллион извинений и улыбок, но глас народа — глас божий... — Он церемонно приложил руку к груди.
— Да вы не беспокойтесь! — улыбнулся наконец Никритин. — Вы же не связаны договором. Да и не так уж я стремлюсь навязывать вам эту работу. Может, еще закупочная комиссия приобретет: эскиз утвержден в Союзе художников. А обсуждать... Что же, пожалуйста! Мне самому интересно.
Было потом и это — обсуждение в цехе. Людное, шумное. И поначалу обсуждали, собственно, не портрет, а самого Бердяева. Досталось «королю». Говорили о том, как он откуда-то привез новые резцы и прятал их от всех; о том, как увиливал от невыгодных нарядов; о скаредности: устроил скандал в столовой, когда у кассирши не нашлось пяти копеек для сдачи. Иные, не умея определить, что именно возмущало их в Бердяеве, давали выход чувствам, убежденно доказывая: «Ну, не свойский он парень, не наш!»
Потом добрались и до портрета. Здесь многие терялись: шутка ли — судить об искусстве!
Кто-то воскликнул:
— Стоило ли вообще заострять на таком объекте, во всех смыслах исключительном? Нам аристократы не нужны!
И тут к столу — обычному столу с кумачовым покрывалом и с обязательным графином, какие стоят в красных уголках, — выбежала Надюша.
— Как не стыдно! — крикнула она влажным скачущим голосом. Губы ее гневно вздрагивали. — Мы же не фотографию для Доски почета обсуждаем, а произведение искусства. У картины есть своя тема, своя идея. А вы все сворачиваете на Феофана Никитича. Понимать же надо!..
— Понимаем, чего там! Все вертелась у этого... искусства... — насмешливо произнесли из задних рядов.
— Ну и дурак! — крикнула Надя, замигав помокревшими глазами.
Вышедший к столу бригадир расточников Костя Шлыков бережно взял ее за плечи и подтолкнул к своему стулу.
— Ты, Надюша, не горячись, — начал он уверенно, держа опущенные руки на отлете и слегка наклонив к ней атлетический торс. — Знаем, любишь в музеях бывать, разбираешься лучше нас в картинах. Но, защищая одного, не надо обижать многих... — Широким жестом Шлыков повел рукой: — Мне, например, картина тоже нравится. Доходит. А вот посмотрю на эту личность — и не могу! — Обернувшись к Бердяеву, он крутнул кулаком у груди. — Ты сама лекцию нам читала... Как Стасов говорил? Главное — правда! А какая же правда в Бердяеве? Я считаю — не нужно называть фамилии. Просто портрет рабочего — и все! Конечно, еще вопрос — станет ли неправда в одном правдой в другом... Уверенность в голосе Шлыкова внезапно стала убывать, и, взмахнув отчаянно рукой, он закончил: — Ну, словом, я тут, кажется, тоже подзапутался... Но считаю — художник ни при чем: работал по-рабочему, на совесть. А имени называть не стоит...
— Да я сам первый отказываюсь! — не выдержал Бердяев, вскочил с места. — Подумаешь — учителя! Я что, я не хотел обижать художника. Вижу — вкалывает. Но это же не я, не похож!.. Отказываюсь и протестую!
—