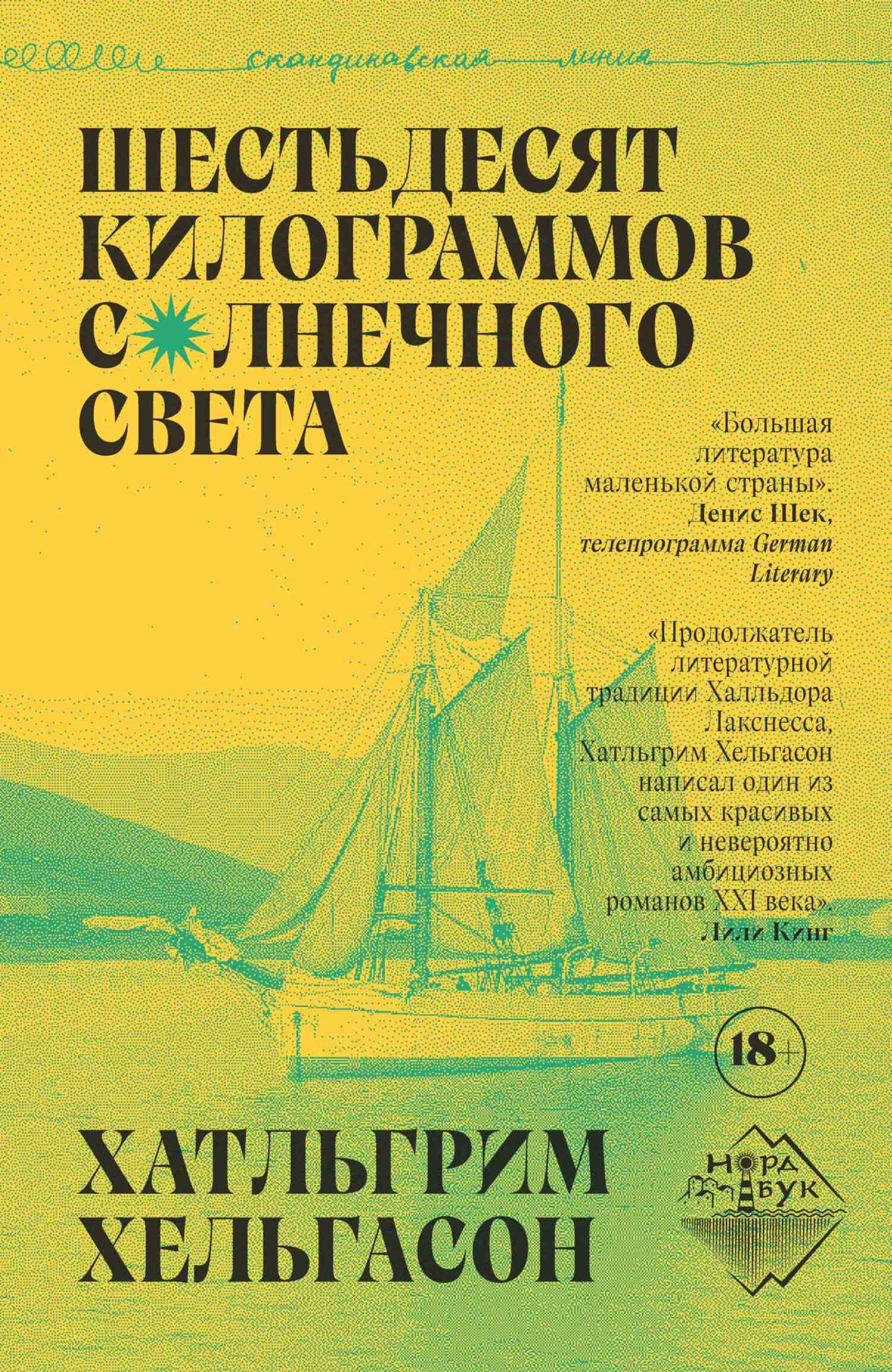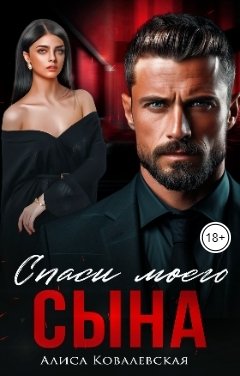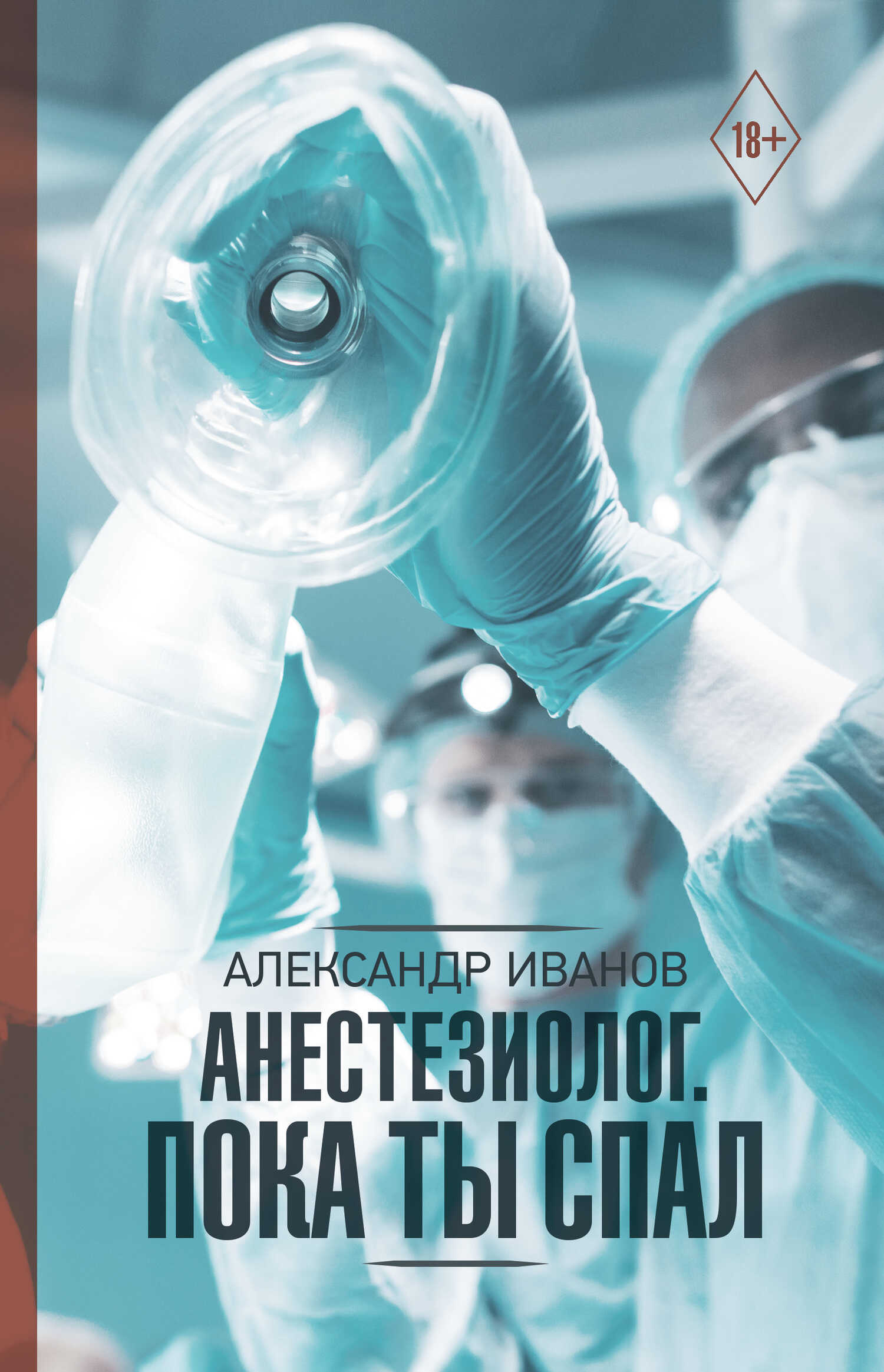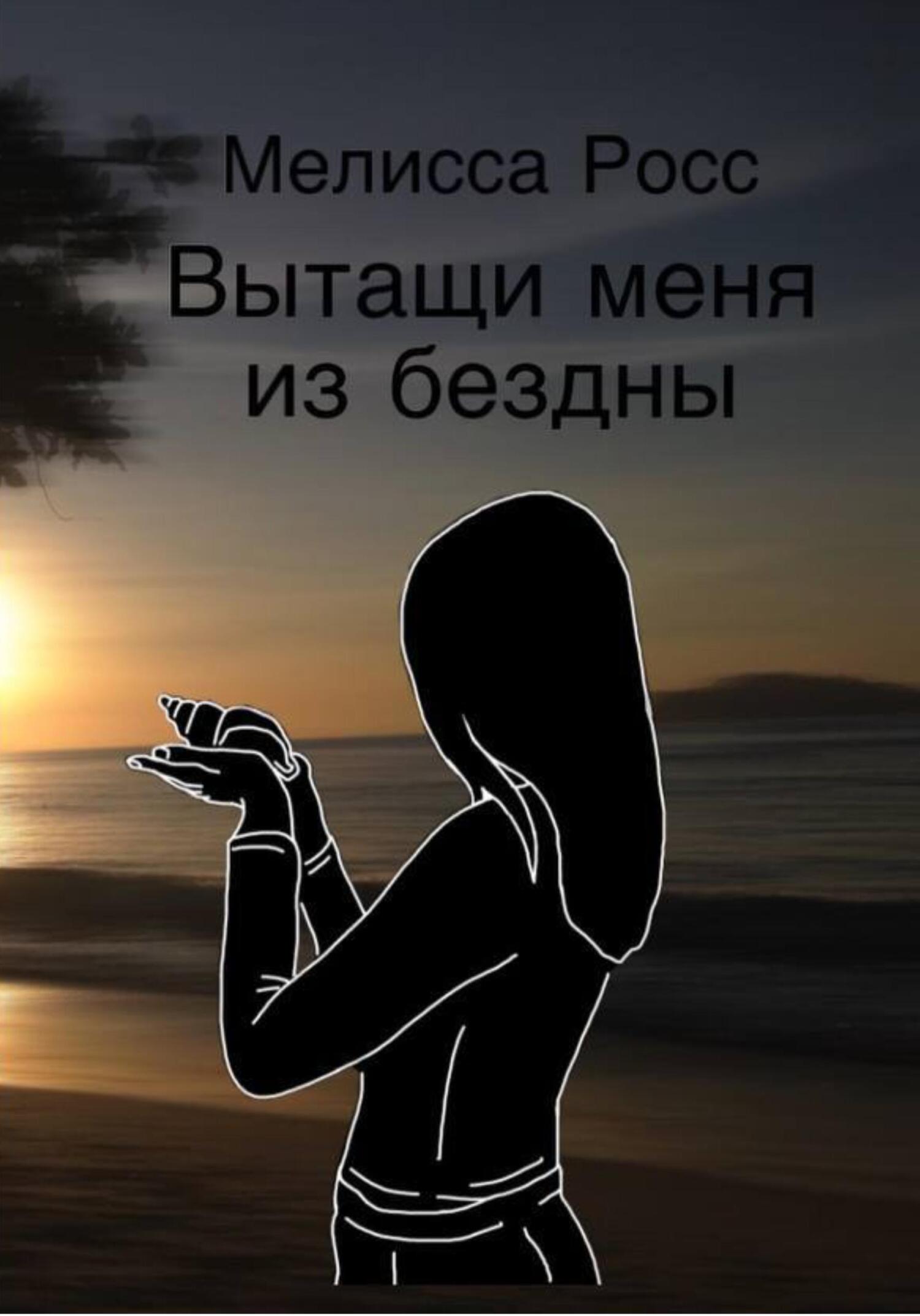следили, чтоб мое имя упоминалось в отечественной прессе хотя бы через день. Переиздание ранних произведений, новый перевод на фарерский, песни на мои стихи; в честь меня назвали фонд поддержки; лекции в вузе; конференции в залах гостиниц. Мое лицо на плакатах, подпись на широком экране, мое имя у всех на устах. Часть моей мечты явно исполнилась, можно и умереть спокойно. Но потомки Тоумаса и слышать об этом не хотели, хотя я и убедил их, что моя смерть принесет им гораздо больше доходов. Они следили за тем, чтоб у меня каждый год выходило по книге. Иногда это были ранее неизданные юношеские почеркушки, не предназначенные для чужих глаз, а иногда старая новелла, которую можно было растянуть на сто страниц, увеличив шрифт и сделав поля страниц по 5 см. Мне даже нельзя было спокойно включить радио – там какие-нибудь специалисты по библиотечному делу рассуждали о том, какое влияние я оказал на последующее поколение. Ах, если б оно так и было! Это послевоенное поколение ворвалось в историю подобно напалму: весь порох растратило на то, чтоб взорвать и уничтожить старые формы: Сюжет мертв! Рифма мертва! И драматизм – тоже! Оно считало себя модерновым и пыталось выглядеть «круто»: носило мешковатые свитера и воротники-стойки, позволяло своим волосам расти во все стороны и бежало в ту сторону, куда они росли, а заодно бегало по пятам за любой знаменитостью, приезжавшей в страну. Они постоянно говорили об «искусстве», боролись за «искусство», тревожились за «искусство». Меньше всего всяких мнений о любви – у того, кто сильнее всех влюблен.
Это поколение оставило читателя на подушке, а само отписалось от него в ночную мглу, а наутро очнулось в одиночестве где-то на лавовом поле, попросило детей забрать его оттуда и с руганью вылезло из их машины: «никто больше книг не читает!» – грозя кулаком «капиталистам, которые отучили людей читать», публике, которой не хотелось глядеть на белые полотна в живописи, пустые страницы в сборниках стихов, молчание на подмостках и романы, где действие происходит в одной комнате без людей. Хотя атомная бомба и не упала на нас – она уничтожила всю жизнь в поэзии и изобразительном искусстве. А потом эти бедолаги очнулись в возрасте пятидесяти лет – и обнаружили, что не оставили по себе ничего, кроме выжженной земли, попытались как-то исправить положение и бросились писать романы с сюжетом и стихи с рифмами – но, конечно, было уже поздно. Эти люди ничего не умели. Так они и стояли – седые, с вытаращенными глазами – и вручали друг другу награды: это все же лучше, чем совсем ничего. Нет ничего хуже, чем на седьмом десятке лет обнаружить, что ты плохо пользовался жизнью. Я-то своей пользовался вовсю – но ведь все равно вышло плохо.
Я был тем самым скальдом, который присягнул не тому конунгу.
Сам я написал роман о них – наших древних исландских скальдах, которые мечтали о милости конунга: что их допустят к нему, и они исполнят перед ним драпу, воспоют того властителя Норвегии, который под конец исполнения радостно зааплодирует, а потом наклонится к своему советнику и прошепчет: «Какие забавные эти исландцы; их земля нам непременно нужна», – а советник кивнет головой и щелкнет пальцами[120].
Сам я присягнул императору тьмы и страха и написал во славу его целую книгу. В благодарность он забрал у меня все, что я имел: искру божью.
Кристьяун Йоунссон, брат Фридтьоува Йоунссона, просидел в Бутырской тюрьме в Москве 31 месяц и 12 дней. Он был крепок здоровьем. В первые двадцать шесть дней его держали в так называемом «пенале» – камере, насчитывавшей всего шаг в ширину и шаг в сторону (до туалета), в которой не было места, чтоб лечь, вытянув ноги. Ведь «пенал» и не был предназначен для сна. По ночам шли допросы: двадцать шесть ночей подряд, и длились по восемь – десять часов. По выходным они длились по целых двадцать четыре часа, и все это время Стьяуни Красного заставляли стоять навытяжку. Он был крепок здоровьем. Самый долгий из допросов тянулся двое с половиной суток без перерыва, без пищи, без отдыха, без чего бы то ни было человеческого. Следователи по очереди пытались выбить из Кристьяуна признание вины. Он был крепким. Ни в чем не сознался. Ни в заговоре. Ни в троцкизме. Цельный, истый коммунист. Партия для него выше всех мук. Это, должно быть, какое-то недоразумение. Он писал письма по-немецки, начинавшиеся со слов «Дорогому товарищу Сталину». А когда петля на шее узника затянулась сильнее, его письма стали начинаться: «Дорогой милой стали». Ах, какая это была совершенная система! Каким же Сталин был гением! И нас же еще и обвиняли в том, что мы поверили обману – когда даже муха, так запутавшаяся в его тенетах, ни на йоту не утратила веры!
Мы узнали об этом позже. Я узнал об этом позже. Я узнал это только после падения стены: Кристьяун Йоунссон погиб 12 декабря 1941 года в камере номер 292 Бутырской тюрьмы. И он умер не в одиночестве. С ним в шестиместной камере были другие сорок семь человек. Он умер от переохлаждения. Его арестовали весной, в рубашке с коротким рукавом и легком пиджаке, а другой одежды в тюрьме так и не выдали. В день его смерти в Москве был мороз в 36 градусов. Ему было 36 лет. Стьяуни Красный погиб от того единственного, что действует на исландца: от холода. Он был крепок здоровьем.
Вечная ему память! Эта память заслуживает иного, чем молчания. Он заслуживал умереть ради чего-нибудь иного, чем ложь о его деяниях. Я заслуживал смерти за то, что воспевал его убийцу.
Кристьяун умер за грехи наши. Наш самый большой грех – делать вид, будто его и не было.
Я молчал об аресте товарища Акселя Лоренса целую четверть века – а ведь я присутствовал при нем. В полночь 1 мая 1938 года в номере 247 в отеле «Люкс». Они взяли себе за правило арестовывать в аккурат перед сном. Сонливость делает людей более склонными к сотрудничеству – кажется, так это объяснялось, – и главным добавлением, которое социализм внес в список пыток, была пытка бессонницей. После целой недели без сна индивидуальность пропадает. И после этого люди в принципе становятся истыми социалистами. И приносят себя в жертву партии.
Три удара в дверь – и Аксель тотчас застыл. Он собирался закурить. Отложил пачку. Я это хорошо