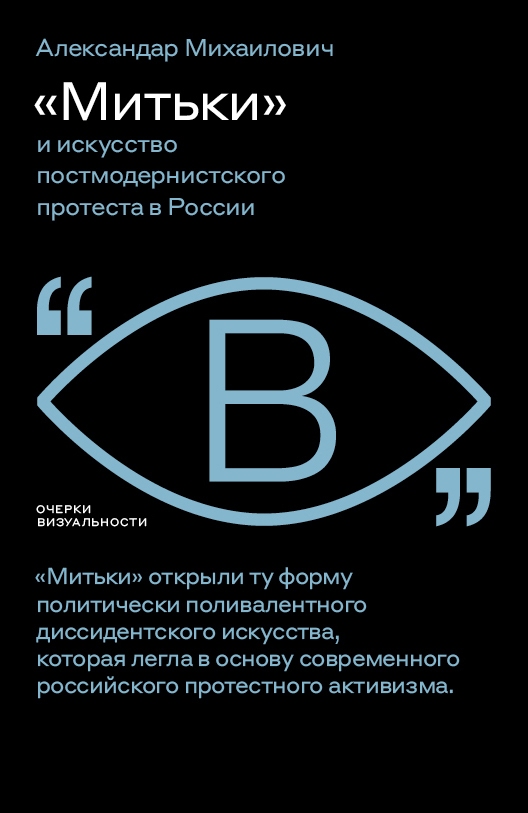до Второго ватиканского собора, на котором в 1965 году было провозглашено, что на евреев нельзя возлагать ответственность за Страсти Христовы. Сюжет с каббалистическим проклятием, которое убивает Даниэля Штайна, противоречит риторике романа касательно новых отношений между евреями и христианами – особенно в свете холокоста. Сцена проклятия принадлежит к куда более ранней эпохе еврейско-христианского дискурса. Как пишет С. Гилман, «всякий раз, как евреи появляются в средневековых христианских религиозных драмах, они призывают духов тьмы вымышленными еврейскими проклятиями» [Gilman 1986: 24]. Улицкая здесь воспроизводит традиционную антиеврейскую догму.
Выраженное в романе консервативно-христианское представление о неполноценности иудаизма и вредоносности евреев, а также воспроизведение в нем, в постсоветскую эпоху, советской национальной политики, убивающей всяческие различия, идут рука об руку с гомогенизированным языком и имплицированной моделью перевода. Взаимозаменяемость языков, универсальная истинность христианства и универсальная истинность советского социализма объединены тем, что они не замечают конкретной особенности любого отдельного языка или народа, принося их в жертву чему-то большему. Русоцентрический поворот советской культурной политики в 1930-е годы строился на том, что русский не таков, как любой конкретный отдельный язык, он представляет собой универсальную ценность (как христианство в отличие от всех остальных религий).
При том что Даниэль Штайн пользуется своим положением переводчика, чтобы спасать евреев от нацистов, более общий посыл романа «Даниэль Штайн, переводчик» состоит в том, чтобы как минимум показать убогость и вредоносность иудаизма, а как максимум – преимущества крещения. Утверждение, что еврейско-христианская идентичность – вещь вполне возможная и даже желательная, крайне двусмысленно в свете продемонстрированной в романе неприглядности евреев с их плотским буквализмом, ведь они обрезают, а не крестят, и используют свой тайный магический язык, чтобы убивать (буква убивает, а дух несет жизнь). Перевод и обращение (translation and conversion) в английском языке этимологически родственны – на это указывали многие исследователи[297].
Работая переводчиками литературы Западной Европы и национальных меньшинств, в том числе и своей собственной, евреи служили верноподданными творцами советской имперской культуры. Однако их мастерство сделало их уязвимыми для обвинений в нелояльности к России: их подлинность как художников русского слова ставилась под удар начиная с 1940-х годов и продолжает ставиться поныне. Даже в советской империи перевод как литературное занятие мог служить и служил этической цели одушевления различий. Например, Выгодский в своих космополитических взглядах на мировую культуру видел в ней место для иврита и советского идиша. Приверженность универсалистским и инклюзивным взглядам не обязательно ведет к отказу от конкретной специфики. Мандельштам, Чуковский и Выгодский возражали против гомогенизации языка в русских литературных переводах. Мандельштам настаивал на текучем круговороте смысла и плотско-телесной особенности каждого отдельного слова. Карабчиевский и Липкин пытались создать гибридные конструкции, в которых один язык открыт другому, учитывает остаточки, которые не поддаются переводу, и, соответственно, порождает множественные противоречивые смыслы. Широта взглядов этих писателей на перевод, язык и литературное творчество уводит от безвыигрышной ситуации, в которой искусство ставят на службу монокультурной политике. К сожалению, за двадцать лет после распада СССР явление это набрало силу. Предпринятое Улицкой превращение О. Руфайзена в фигуру Христа, пусть и небезупречного, – это попытка смягчить религиозную и этническую напряженность в постсоветской России через возврат к произвольному имперскому универсализму советских времен.
Глава 8
Впоследствии
Силы, двигавшие советской литературой, давно иссякли. Остались лишь словесные руины.
Александр Генис. Вид из тупика
Осмысляя литературу недавнего периода, хочется остановиться именно на категории «последнего». <…> Последнее нельзя охарактеризовать через категорию времени: оно после времени. <…> Новая литература является последней, не по причине момента ее возникновения, а по причине ее склада, ее сущностной «запредельности».
Михаил Эпштейн. После будущего: О новом сознании в литературе
Еврейские писатели, художники и теоретики внесли весомый вклад в развитие соцреализма в литературе и искусстве; их произведениями определялся нарратив о Второй мировой войне, они содействовали формированию того типа советского универсализма, в котором им была впоследствии уготована важная роль культуртрегеров и переводчиков советской цивилизации, где ключевым оставался русский художественный канон. В то же время евреи вели обратный календарный отсчет горькой памяти: в их произведениях фиксировались разрушения, которых все больше громоздилось на пути к постоянно откладывавшемуся светлому будущему. Крах СССР дал бывшим советским гражданам возможность заговорить, помимо прочего, и о важнейшей роли евреев в советской цивилизации. На заключительных страницах будет дан обзор откликов на крах Советского Союза с его масштабными нарративами и отмечен их параллелизм с более ранними моментами советской истории. Речь пойдет о том, как видные писатели, и евреи, и неевреи, трактовали конец советской истории с философских позиций, как они отреагировали на события августа 1991 года, и о том, как писатели и художники восприняли крах и как использовали возможность построения новых взаимоотношений с прошлым. В качестве иллюстраций выбрано творчество петербургского писателя А. М. Мелихова, художника И. И. Кабакова, уехавшего из СССР в 1988-м, и поэта и прозаика О. А. Юрьева. У Мелихова мы видим глубокую меланхолическую привязанность к советскому еврейскому нарративу; Кабаков и Юрьев, каждый по-своему, выстраивают альтернативные исторические анналы и темпоральности[298]. В творчестве Юрьева особенно ярко видно, в каких именно формах евреи и еврейская история необъяснимым образом одновременно и присутствуют, и отсутствуют в позднесоветской культуре. Общее у этих и многих других писателей постсоветского периода одно: бремя невыносимого прошлого. Революционная культура уничтожила память; постсоветская культура, напротив, ею одержима. В 2010 году прилавки книжных магазинов буквально ломились от мемуаров и дневников[299]. Однако остается открытым вопрос, как именно прошлое функционирует в текущем моменте, служит ли оно остранению настоящего или умудряется к нему притулиться, тем самым подтверждая правильность и неизбежность современной культуры и политики.
Общая картина
После распада СССР далеко не всем удалось пересмотреть свои отношения с советской культурой. В период краха Советского Союза происходила реконфигурация его основных мифов. Некоторые писатели, как евреи, так и неевреи, публиковали обобщающие повествования о русско-еврейской жизни в XX веке. Двухтомная эпопея о русско-еврейской жизни «Двести лет вместе» А. И. Солженицына, вышедшая в 2001 году, – красноречивый тому пример [Солженицын 2001][300]. По мнению Солженицына, с тех пор как евреи в конце XIX века мертвой хваткой вцепились в российскую интеллигенцию, они неизменно доминировали во всех областях советской жизни, при этом сохраняя клановую верность друг другу, равно как и фундаментальную враждебность к русской культуре. В «Псаломе» Горенштейна, написанном в 1970-е и впервые опубликованном в России отдельными выпусками в 1991-м, события советской истории с 1930-х