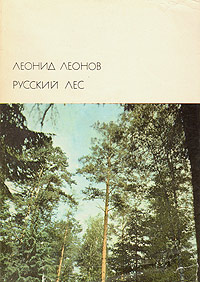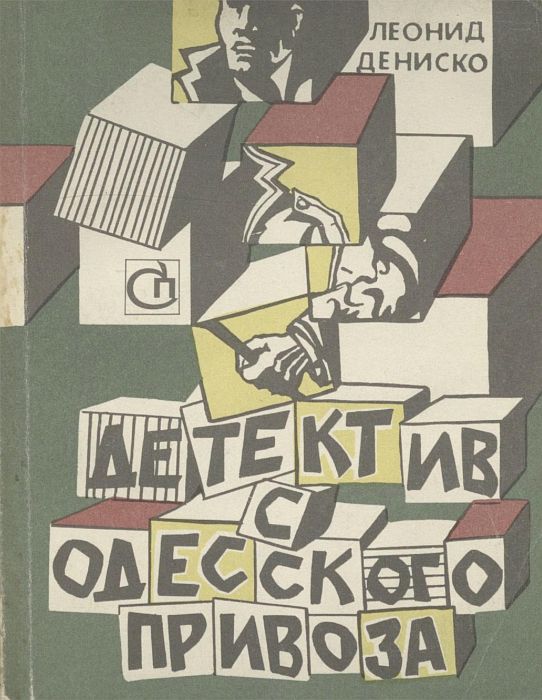соприкасается с нуждами народа. Не любить свое дело — значит, не любить человека, значит, сам…
— Значит, сам дрянь, так, по-вашему? — грубовато, с недоброй интонацией спросил гость.
— Тут надо отыскать более правильное слово, — спокойно сказал Антон Павлович. — Дрянь — слово обиходное.
Гость привстал и тоном следователя спросил:
— Кем вы себя, Антон Павлович, больше ощущаете — писателем или врачом?
— И писателем и врачом, и не только писателем и врачом. А что?
— Так. Позвольте спросить, какую профессию вы любите больше?
— Я, видите ли, не люблю профессий, я люблю дело, работу.
— Ну, в таком случае — в каком деле вы чувствуете себя больше на месте?
— В том, в котором, кстати, и дело моей совести, господин военный врач!
— И она вас иногда спрашивает? — не унимался гость.
— Это ее обязанность, господин военный врач!
— И что же вы ей отвечаете?
— А я с нею веду разговор на английском языке. Вы знаете этот язык, господин военный врач?
— К сожалению, я не знаю иностранных языков.
— Ну, вот видите! А я только на английском и разговариваю с совестью. Да вы садитесь! Миша, сделай гостю бутерброд с ветчиной, налей мадеры! Вино у меня превосходное. Лейкин из Москвы присылает. Не угодно ли, господин военный врач!
— Пардон, я немножко увлекся, — гость сел за стол и не отказался от мадеры. — Я люблю русскую литературу, я люблю Антона Павловича Чехова и возможность поговорить с ним, как в некотором роде с коллегой… Вы меня извините!
— Охотно! — весело отозвался Антон Павлович. — Один мой товарищ, земский врач, чудесный человек, так сказал однажды: не человек выбирает профессию, а она человека. Здесь есть большая доля правды.
— Чай пейте, господин военный, — сказала Евгения Яковлевна. — Остынет!
— Благодарю вас, пью. — Гость привстал и поклонился старушке.
Долго молчали. Тишина была неловкой, неестественно спокойной. Разговор возобновила Мария Павловна: она пожаловалась гостю на дождь, на то, что семена моркови и репы оказались пересушенными. Гость рассказал анекдот о жандарме: посадил жандарм резеду, а выросла каротель. Никто не смеялся. Старики вздохнули, переглянулись и ушли. Они привыкли к тому, что в семье их никто и никогда не говорил плоских, пошлых анекдотов. Уходя, Павел Егорович спросил гостя:
— А почему непременно жандарм сажал резеду, а не батюшка или, скажем, начальник почты?
Все рассмеялись, и искреннее всех Антон Павлович, даже пенсне слетело с переносицы и завертелось на шнурке. Гость вдруг разоткровенничался, — он заявил, что отец его — жандарм, а мать дурная, непутевая женщина. О ней, по словам гостя, и говорить не хочется…
— В общем, люди дрянные, — веско и даже несколько сурово заключил гость. — А потому и я сделал жандармом героя моего анекдота. Из головы не выходит, что отец мой жандарм, а мать…
— Господи! — воскликнула Мария Павловна, покрываясь румянцем. — И зачем вы рассказываете все это? К чему?
— Мне совестно, что у меня такие родители. И потом, мне хочется поговорить об этом с Антоном Павловичем. Ведь вы, надеюсь, господа, не монархисты?
— Я бы, простите, не хотел заводить об этом разговор, — еле слышно произнес Антон Павлович.
Извинился, вышел из-за стола и стал смотреть в окно.
Гость молча допивал свой чай. Из соседней комнаты доносилось глухое бормотание. Мария Павловна улыбнулась, а за нею, прислушавшись, улыбнулись и братья. Насторожился гость.
— У вас в доме покойник? — спросил он. — Такое впечатление, что в соседней комнате по покойнику читают.
— В соседней комнате сидят наши старики, — с умилением пояснила Мария Павловна. — Отец читает вслух жития святых, мать слушает. Прелесть что такое!
— Ваша семья религиозная? — вытягивая шею, спросил гость.
Ему не ответили. Дождь стучал в стекла окон, блеснула молния, глухо проворчал гром.
— Стороной идет, — заметил Антон Павлович. — А как хорошо, как красиво кругом, — вы посмотрите, друзья мои!
Все подошли к окну. Гость опять задал вопрос:
— А грозы вы не боитесь?
Мария Павловна ответила за всех:
— Ну, чего-чего, а грозы-то мы совсем не боимся!
Гость вдруг заспешил домой.
— Мне пора. Как бы не вымочило до нитки.
Его не удерживали, не просили остаться до утра, — запрягли «Анну Петровну» — старую, брыкливую клячу, купленную Павлом Егорычем у цыгана. Работник Фрол сел на облучок. Еще раз попрощались с гостем.
— Какая гадость! — воскликнула Мария Павловна, вернувшись в дом.
— Презабавный молодой человек, — сказал Антон Павлович.
— Шпик, — уточнил Михаил Павлович и поведал брату и сестре свой разговор с помощником исправника. Антон Павлович невесело рассмеялся.
— Интересно было бы знать, — заметил он, — кем он себя больше ощущает — врачом или соглядатаем? По-моему, он врач, но его выбрала вторая профессия.
Явились старики. Несмотря на поздний час, они не спали. Павел Егорович был рассержен.
— Что ж это вы Антона не уберегли, а? Человек в душу лезет, а вы деликатничаете! Я все слыхал!
Утром Антона Павловича разбудили голоса. Работник Фрол докладывал Михаилу Павловичу:
— Всю дорогу расспрашивал! И в церковь ходит ли, и что с мужиками говорит, и как вообще настроение.
— А ты что же?
— А я ему на это вежливенько и говорю: «Извините, — говорю, — я господской жизни не касаюсь, я сам, — говорю, — в храм божий не ахти какой ходок». Ну, он мне рубль дал. Я, правда, выпил.
— И рассказал ему что-нибудь?
— А ничего! Ни полслова! Я один пил. Ну, он в школу пошел. Там доктор с учителем в карты играли, водка у них там, закуска.
— А ты где же водку достал?
— А у Хорька, в крайнем доме. У Хорька всегда достать можно, были б деньги!..
В полдень сели обедать. Антон Павлович был весел, шутил, похвастал, что сегодня утром написал на один рубль тридцать копеек, хотел дотянуть до рубля с полтиной, но тут явилось затруднение: хоронить героя или женить его? Если женить, то получится на все пять рублей, а ежели хоронить, то больше двух рублей не набежит. Что делать?
— А ты его в военные доктора отдай, — посоветовал Павел Егорович.
Все расхохотались. Антон Павлович о вчерашнем докторе говорить запретил, пригрозив штрафом.
— На поддержание Хорька, у которого всегда выпить можно, — добавил Антон Павлович.
4
Ночью он начал «бухать».
Все в доме спали, было тихо. Стороною опять шла гроза, ежеминутно вспыхивали бледные молнии, продолжительно и нестрашно бил гром.
Антон Павлович встал с постели, зажег свечу. Тотчас погасил ее, — испугался, что свет в его комнате привлечет внимание родных и они поймут, что Антону плохо. В темноте нашел лекарство, отпил прямо из горлышка, в стакан налил воды, запивал глотками редкими, большими. Пил и говорил себе самому:
— Доктор Чехов, вы серьезно