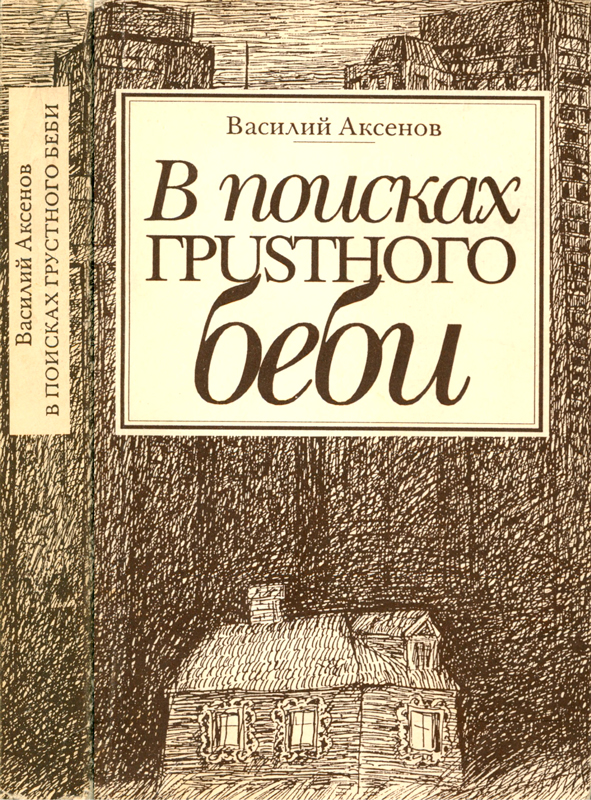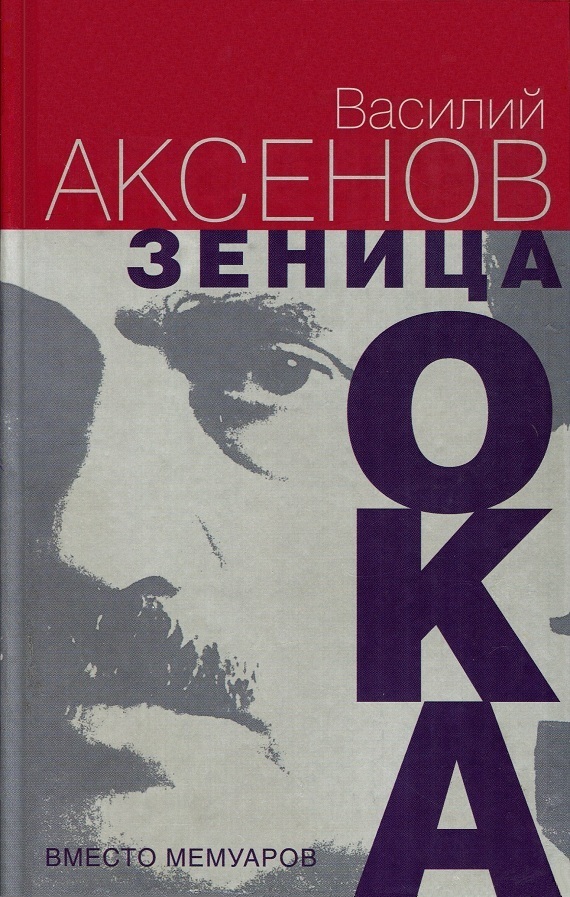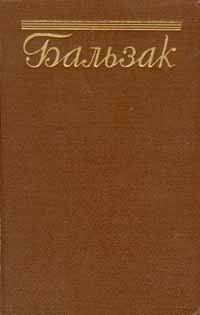земли сигналы бомбардировщикам. Рестон этого не знал и убегал от мотоцикла даже с некоторой шаловливостью. Нырнул во двор, забежал в какой-то темный подъезд, увидел, как мотоцикл промчался мимо, и снова выскочил на Горькую. Больше его никто не тревожил, и он спокойно шел несколько минут и даже постоял немного на Пушкинской площади, глядя, как озаряется огнем какая-то высокопарная скульптура — социалистический ангел, парящий на крыше углового дома.
Стрельба зениток усиливалась, лучи прожекторов метались по всему своду небес. На площади Маяковского он вдруг увидел высоко в небе в пересечении лучей медленно плывущие крестики нацистских бомбардировщиков. Разобрать марку машин было невозможно, но он сказал себе, что это «хейнкели» и «дорнье», и быстро черкнул в записной книжке — «хейнкели» и «дорнье». Вдруг где-то, совсем неподалеку, раздался ужасающий удар, немедленно перешедший в грохот развала. Он понял, что эти мирно проплывающие крестики начали сбрасывать свой груз.
Он уже знал, что метро в Москве используется как гражданское бомбоубежище, и быстро пошел к знакомой ему станции «Маяковская».
Какие-то мальчишки в полувоенной одежде, дежурившие в вестибюле, увидев его, бросились, крича: «Ты что, дядя, охерел?», втащили внутрь. Проклятое слово «бомбоубежище» никак не давалось Рестону, но он все-таки его произнес.
— Англичанин тут какой-то охеревший шатается! — крикнул кому-то какой-то из дежурных и подтолкнул Рестона к эскалатору: — Давай, чапай вниз!
Движущаяся лестница, естественно, не работала, и он долго шел пешком, удивляясь глубине шахты. Не исключено, что при постройке в начале тридцатых кто-то уже думал о будущих бомбардировках, предположил Рестон.
Как и всех иностранцев, московское метро поражало Рестона изысканностью своей отделки, в которой сквозь нарождающуюся социалистическую пышность еще кое-где просвечивал ныне совсем уже загнанный русский модернизм. Почему вдруг решили с такой роскошью украсить обыкновенную городскую транспортную систему? Скорее всего, это идея самого Сталина, без него тут ничего не делается, но что все-таки он имел в виду? Быть может, хотел в этих дворцах показать массам черты приближающегося коммунизма? Замечательно, что этот идеальный коммунизм возник изначально все-таки под землей.
Лестница кончалась, выступали из мрака два ряда колонн полированной нержавеющей стали, мраморная облицовка стен, купола с мозаичными панно, в которых-то как раз сквозь радостное социалистическое содержание просвечивал какой-то формализм. Пол станционного зала, запомнившийся Рестону своим геометрическим орнаментом, был не виден, поскольку все его пространство было до последнего квадратного сантиметра покрыто сидящими или лежащими в скорчившихся позах людьми.
Рестон остановился в недоумении, потом попытался, балансируя, продвинуться вперед. Вряд ли в этом храме социализма найдется место для моей задницы, подумалось ему, не садиться же, в самом деле, на людей. Тут как раз его позвали: «Эй, садитесь, гражданин!» Он оглянулся и увидел, что кто-то умудрился подвинуться, освободив ему кусочек пола, достаточный для приземления на половину ягодиц. Опустившись, он подумал, что вряд ли уйдет отсюда без воспаления седалищного нерва. В следующий момент ему стало чертовски неловко, поскольку он увидел, что по-медвежьи привалился боком к какой-то женщине. Еще один момент проскочил, пока Тоунсенд Рестон не сообразил, что ему чертовски повезло: женщина была очаровательна. У нее были густые темные волосы и прозрачные голубые глаза — сочетание, иногда, не часто, встречающееся в Северной Италии. Не там ли он встречал ее? Его не оставляло ощущение, что он уже где-то видел эту женщину. Между тем она сидела словно не на полу в бомбоубежище, зажатая со всех сторон, а в уютном кресле возле камина. Ноги ее были прикрыты клетчатым пледом. От Рестона не ускользнуло, что их очертания были очень милы. На колене она держала блокнот и время от времени что-то в нем записывала. Уж не на журналистку ли напал старый бандит пера? К левому боку женщины привалилась девочка лет семи, она безмятежно спала, посапывая носиком. Справа, увы, громоздился здоровенный, пропахший трубочным табаком и шотландским виски американец. Она улыбнулась ему ободряюще: устраивайтесь, мол, поудобнее.
— I’m awfully sorry, ma’am, for such an inconvinience[8], — пробормотал он.
Она удивленно, если не изумленно, подняла брови. Иностранец?! Здесь?!
— Не хорошо русски, — сказал Рестон. — Est-que vous parlez français, madam?[9]
Оказалось, что она совсем неплохо говорит по-французски, хотя все время смеется над своими спотыканиями и дурным произношением. Мало практики, вернее, полное отсутствие практики. С мужем они иногда в виде шутки болтали по-французски, но он уже вот почти месяц как ушел на фронт. Он военный, ваш муж, мадам? Нет, он врач, хирург, ну и, как вы понимаете, сейчас там большой спрос на хирургов. Ваш французский, мадам, ненамного хуже моего, а я жил в Париже больше двадцати лет. Вы русская? Она улыбнулась: полурусская, полугрузинка.
Задавая этот вопрос, Рестон, как и все американцы, больше имел в виду гражданство, чем происхождение. Собеседница же ответила в типично местном ключе: многонационально-советское гражданство подразумевалось. Грузины — это на юге, вспомнил он, на границе с Турцией. Вот откуда такое замечательное сочетание, Средиземноморье и Север, отголосок Скандинавии — она ведь тоже всегда присутствует на этой равнине, если верить истории.
Простите, мадам, но меня не оставляет ощущение, что мы уже встречались, проговорил он. Из-за сдавленного положения их тел она все время говорила с ним как бы слегка из-за плеча, и эта ее поза уже начинала кружить голову Тоунсенду Рестону. Странно, сказала она, мне тоже кажется, что я вас уже где-то видела, но ведь это невозможно, ведь вы?.. Я американец, но я тут часто бываю. Позвольте представиться, Тоунсенд Рестон. Назвав свое имя, он тут же пожалел, что ставит ее в неловкое, если не сказать страшное, положение. После всех этих ужасов тридцатых годов советские боятся знакомиться с иностранцами, и их, ей-ей, можно понять. Вот и она, как ему показалось, запнулась. Не беспокойтесь, мадам, я все понимаю. Она засмеялась. Вам можно позавидовать, если это так. Я, например, ничего не понимаю. Меня зовут Нина, Нина Градова.
Нина была поражена случайностью этого знакомства. Из тысяч и тысяч людей, спасающихся от бомбежки, словно по произволу романиста, именно к ней прибился возможно единственный на всю эту толпу иностранец, да еще эдакий «Хемингуэй», международный джентльмен, американец из Парижа! Да к тому же, оказывается, он еще и журналист, обозреватель европейских событий для «Chicago Tribune» и «New York Times», добрался сюда через Тегеран на английском самолете, чтобы писать о битве за Москву. Она была почти уверена, что это имя ей встречалось в советских газетах в контексте яростных идеологических контратак. «…Небезызвестный Тоунсенд Рестон со своей привычной антисоветской колокольни» — что-то в этом