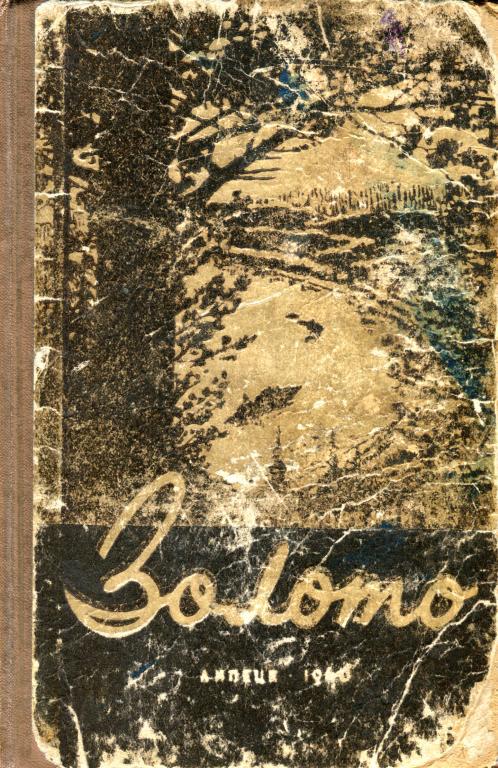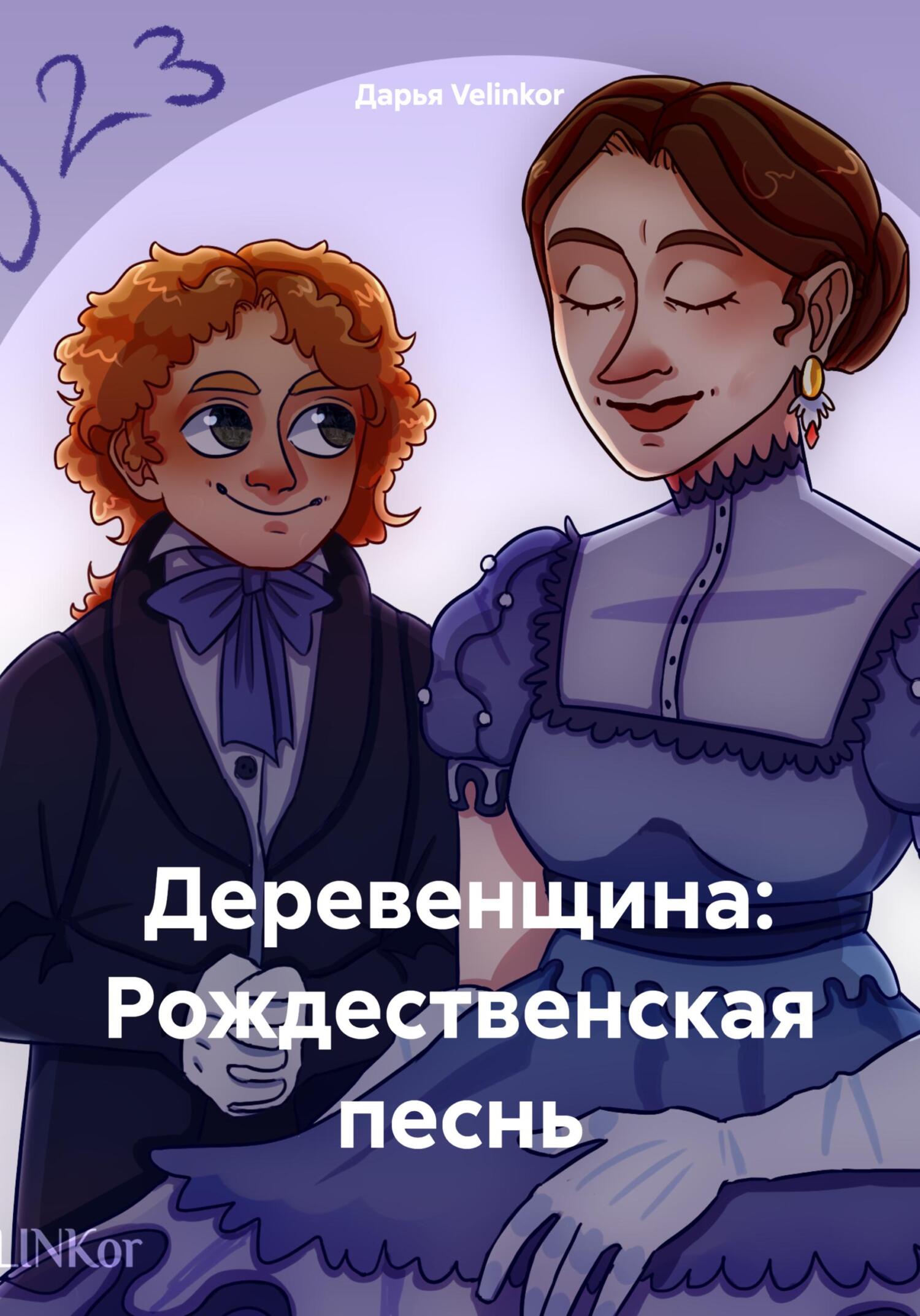Нюслейн пригласила его в воскресенье к обеду. Отказаться было бы, конечно, невежливо, и он согласился. Подали жаркое под кислым соусом с картофельными клецками; обед был изумительный, и Генсхен полакомился на славу, но когда в следующее воскресенье фрау Нюслейн опять пригласила его к обеду, он поблагодарил и отказался: к сожалению, сказал он, у него нет времени.
— Нет времени? Да какие у тебя дела, Генсхен? Никаких, совершенно никаких! Уговори его, мама, он просто стесняется.
Но когда Генсхен все же отклонил приглашение, Долли была страшно обижена. Ах, она его решительно не понимает!
Папаша Нюслейн обращался с ним все более по-приятельски. «Не хочешь ли выпить кружечку пива, Генсхен?» Теперь он говорил ему ты. Однажды даже повел его с собой играть в кегли. Он говорил с ним о расширении дела. «Мы могли бы снять соседнее помещение, Генсхен, как ты на это смотришь? Я возьму на себя мужской зал, а ты вместе с Долли — дамский, а?» У Ганса волосы становились дыбом.
— Да, мне надо уехать, — повторял он с беспокойством, — иначе будет поздно!
Герман только смеялся над всей этой историей, но Антон относился к ней с полной серьезностью.
— Улепетывай, Генсхен! — кричал он так громко и взволнованно, что у всех звенело в ушах. — Улепетывай, да так, чтобы пятки сверкали! У меня есть опыт, а ты еще слишком прост. Я знаю эту Долли — она славная девушка, но через год она приберет тебя к рукам. Удирай, удирай, как можно скорее!
Через несколько недель Генсхен уехал к своей старой больной матери; Долли могла ломать руки, сколько ей было угодно, — ничего не помогло.
Они проводили Ганса на станцию, а когда вернулись, было уже темно и стол был накрыт к ужину. На не. м стояли только три тарелки.
— Нас становится все меньше! — сказала Альвина, простодушно смеясь. Они не ответили.
На столе лежало письмо, которое принес посыльный: нотариус Эшерих просил Германа прийти к нему. На следующее утро Герман, тщательно побрившись, отправился в город.
— Пришлось немало повозиться! — заметил нотариус и открыл папку с бумагами, лежавшую наготове на письменном столе. — Но, так или иначе, кое-что удалось выяснить, хотя случай оказался трудный, исключительно трудный!
Герман кивнул. Он и сам совершенно убежден в том, что случай трудный. Нотариус что-то говорил, перелистывал дело и наконец заявил, что речь идет о тяжком преступлении — ни больше, ни меньше, как об убийстве, вернее— о нанесении смертельного ранения в состоянии аффекта. Во всяком случае, суд в свое время счел убийство доказанным и, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, приговорил Петера Клингенбергера к шести годам тюремного заключения.
Что такое? Герман побледнел как мертвец. Он сидел, словно его обухом по голове ударили, и недоверчивая, даже глуповатая улыбка застыла на его лице. Смертельное ранение, убийство? Рыжий? Он ожидал чего угодно, но это совершенно невозможно, никак невозможно! Человек, который никогда мухи не обидел!
И все же это так, заявил нотариус. На свете нет ничего невозможного, в чужую душу не заглянешь. Самый добрый человек при известных предпосылках может совершенно измениться, иногда ненадолго, даже всего на несколько минут. Этот Петер Клингенбергер из ревности зарубил топором батрака Вильгельма Рааба и бросил тело в мельничный пруд. Повод для ревности подала работница, служившая на той же мельнице, — некая Эльза Вебер.
У Германа закружилась голова, он уже не слышал, что говорит нотариус. Защитник… Что сделал защитник? Нет, он был не в состоянии следить за рассказом.
Защитник, разумеется, отрицал преднамеренное убийство, но налицо было показание Петера Клингенбергера, который сам признал, что он еще днем приготовил топор, чтобы вечером убить батрака. Один из тех случаев, в которых разобраться трудно. Таково положение вещей. Трудно, очень трудно. К началу войны Клингенбергер отсидел три года из шести. Он выразил желание отправиться на фронт добровольцем: ему отказали. Но Клингенбергеру, по-видимому, уже невмоготу стало оставаться в тюремных стенах. Ему удалось бежать и раздобыть бумаги некоего Петера Ройтера. Под этим именем он и воевал. Однако власти узнали об этих похождениях и отдали приказ арестовать его вновь. Ведь он еще не отбыл наказания. Нотариус не советовал добиваться пересмотра дела — это займет слишком много времени. Лучше всего, по его мнению, подать прошение на имя министра юстиции. Быть может, удастся добиться, чтобы наказание Петеру Клингенбергеру было хотя бы смягчено, особенно если удастся представить убедительные доказательства того, что Клингенбергер действительно вел себя на фронте так доблестно, как утверждает Герман. Может быть, из полка, может быть, от командира батареи?
— От командира батареи! — сказал Герман и встал. Он не мог ни минуты больше оставаться в конторе нотариуса. — Я сегодня же напишу командиру батареи! — сказал он и поспешно попрощался, забыв даже поблагодарить нотариуса.
Домой он вернулся совсем растерянный. Альвина должна была сегодня одна есть свой суп, — он сказал, что уже позавтракал в городе. Несмотря на довольно сильный дождь, он весь остаток дня усердно работал в поле; уже темнело, когда он привез последнюю подводу с репой.
Антон ждал его в кухне.
— Ну что сказал нотариус? — с любопытством спросил он.
Герман ответил, что случай довольно тяжелый и что пройдет, должно быть, немало времени, прежде чем они снова увидят Рыжего. Он сделал Антону знак глазами: Альвина была в кухне. Лишь придя в сарай, он рассказал ему все подробно. У Антона был такой вид, словно его дубиной по голове ударили. Как? Что? Рыжий? А эта Эльза Вебер — как видно, его Эльзхен? Никто бы этому не поверил! Рыжий! Рыжий, у которого белочки берут корм из рук! Совершенно невероятно. Во всяком случае, они тут же единодушно решили, что никто ничего не должен знать об этом деле — даже Карл и Бабетта. Так будет лучше.
Они тотчас же принялись сочинять письмо командиру батареи. Это был капитан фон Хассе, владелец имения Клейн-Роде под Магдебургом. Друзья припоминали сотни смелых поступков Рыжего, говоривших об его удивительной выдержке и хладнокровии. На следующий день Герман переписал письмо начисто, и после этого у них стало немного легче на душе. На капитана Хассе они могли положиться, — Рыжий был его любимец, и он, конечно, помнит свою «Морковку», как он его называл.
Тихо стало в Борне. Им не хватало Рыжего, умевшего так ловко плутовать в карточной игре; уехал и Генсхен, который неизменно забавлял их россказнями о своих похождениях и проделках. Они уныло играли по вечерам в шестьдесят, шесть, но игра скоро надоедала; они зевали и ложились спать спозаранку. Целыми