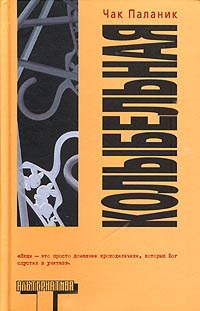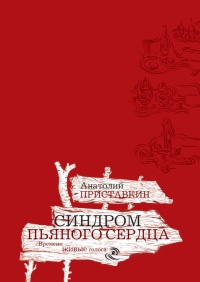— Значит, купи, — настаивает она.
— Ладно.
— Или я размножу эту писанину и все увидят, как ты любишь свою драгоценную Зоуи, — говорит она и машет моим сочинением. — Только представь, что Чипс скажет, когда это увидит.
Чипс наверняка изобразит, как он занимается сексом с Зоуи: задержав дыхание, как водолаз, и плывя через горы жира.
— Это Джин тебе дала?
— Ха-ха! Это уж сам догадайся, — отвечает она.
Если я опоздаю на первые два автобуса до дома, придется ждать следующего полчаса. Один уже ушел.
— О! Ну ладно, тогда увидимся завтра. А то мой автобус уедет, — говорю я.
— Если ты сделаешь все, как я скажу, обещаю, что сожгу эти бумажки, — говорит она. — Все честно.
Через забор вижу, как второй автобус подкатывает к главному входу.
— Мне пора бежать, а то на автобус опоздаю, — беспокоюсь я.
Автобус исчезает за домом престарелых.
— Знаешь что? — говорит Джордана.
— Мне надо идти…
— Ты, верно, догадался. Джин приняла меня за подружку Зоуи. И отдала мне конверт в столовой.
— Извини, но мне пора, — говорю я и поворачиваюсь, чтобы сделать ноги.
— Подожди. Мы могли бы сжечь улики прямо сейчас, — и Джордана поднимает зажигалку.
Будь я слугой — или, скорее, дворецким, — я относился бы к тем, кто почтительно замечает, когда хозяин собирается сделать глупость: «Думаю, лучше сжечь бумаги после того, как условия шантажа выполнены, миледи».
Автобус подкатывает к остановке у подножия холма!
— Да не дергайся ты, и так уже опоздал.
Кажется, она права. Единственный шанс успеть на автобус теперь — это если на остановке уже были люди, и у одного из них не оказалось мелочи, и теперь ему пришлось бежать в газетный киоск и покупать ириску, чтобы разменять пять фунтов.
— Уехал твой автобус.
Придется ехать на третьем.
— Ну что, сожжем сейчас? — спрашивает она у меня за спиной. Я оборачиваюсь. — Давай же, — предлагает она.
Я мог бы заметить, что тот, кто считает шантаж своим талантом, не поступает так. Она смотрит мне в глаза и медленно спускает одну ногу, потом другую, ступая по лестнице. У нее довольно изящная походка. Ее плиссированная юбка развевается на ветру. Я представляю, что ее нисхождение сопровождается игрой джазового оркестра.
На предпоследней ступеньке она спотыкается, пугается и спрыгивает на землю. Ветер задирает юбку до талии. Я вижу кое-что, чего мне видеть не следовало. И уже не чувствую себя таким беспомощным.
— Хорошо, поджигай, — говорю я.
Оскуляция
Мой язык у Джорданы во рту. Я чувствую вкус обезжиренного молока. Вижу внезапную вспышку: это переживание настоящей любви и щелчок фотоаппарата.
Она убирает язык и отступает на шаг. На ней черная кофта с красными рукавами и джинсовая юбка с карманами.
— Надо было закрыть глаза. — Джордана опять включает мыльницу. Звук заряжающейся вспышки похож на рев маленького самолета, идущего на взлет.
Мы стоим в центре каменного круга в Синглтон-парке. По сути, это всего лишь несколько камней неодинакового размера, разбросанных вокруг. Фред, старая овчарка родителей Джорданы, бегает без поводка, нюхает все и метит булыжники.
Загорается зеленый огонек.
— Давай еще раз, и постарайся не целоваться как гомик.
Мы целуемся. У нее теплый и сильный язык. Я провожу языком по ее клыкам. Они кажутся огромными. Я проверяю ее премоляры[7]и нащупываю зубы мудрости. Раздается «клак», и сквозь опущенные веки прорывается вспышка света. Мы разъединяемся.
— Ты вроде говорил, что у тебя есть опыт, — фыркает Джордана, утирая рот рукавом. — Не поцелуй, а прием у зубного.
— У меня такой стиль.
— Целоваться, как бормашина?
Наверное, ждет, что я скажу в ответ что-нибудь остроумное.
— Попробуем без языка, — приказывает она и устанавливает камеру на ближайший каменный уступ. Она смотрит в видоискатель и показывает место на траве. — Садись туда на колени.
Я сажусь. Трава мокрая; коленям становится прохладно.
— Идеально. — Джордана нажимает кнопочку на фотоаппарате и садится на колени передо мной. — Хорошо, — говорит она, — только без языка.
Мы принимаемся целоваться как рыбы. Она кладет руку мне на затылок. Я обнимаю ее за шею. Вокруг разговаривают разные птицы. Одна пищит, как модем. Мои губы распухли. Срабатывает вспышка. Мы продолжаем целоваться. Через некоторое время Джордана отстраняется. Ее губы покраснели, а кожа вокруг, рта, кажется, воспалилась.
— Ладно, этого хватит, — командует она. — Теперь давай свой дневник.
Я купил в газетном киоске ежедневник в твердой обложке на пружинах.
На последней странице — подробная карта железных дорог Великобритании. Я сижу на траве по-турецки, на коленях ежедневник; Джордана усаживается на камень напротив, возвышаясь надо мной. И опять возникает то чувство беспомощности. Наверное, все потому что она сидит как на троне.
— Открой сегодняшнюю дату, пожалуйста, — повелевает она голосом миссис Гриффитс, нашей математички. — Буду диктовать. — Я открываю пятое апреля и застываю с ручкой над страницей. — Дорогой дневник, — диктует Джордана, — я все время думаю о Джордане Биван.
Я киваю и записываю:
Дорогой дневник,
Я все время думаю о Джордане Биван.
Поднимаю голову. Джордана намазывает губы вазелином.
— Я знаю, что она нравится не только мне, — продолжает она, и не так уж это надумано.
Пишу:
Я знаю, что она нравится не только мне.
— Джордана бросила Марка Притчарда, и тому пришлось утешаться с давалкой Джанет Сматс.
Я замираю. Кажется, Джордана увлеклась. И мне как-то неудобно называть Джанет давалкой.
— Я с Джанет на географии сижу, — замечаю я.
Джордана грызет ноготь на большом пальце.
Было время, когда Джанет Сматс с Джорданой были лучшими подругами. А Марк Притчард гулял с Джорданой. Поговаривают, что Марк изменил Джордане с Джанет на дискотеке «Голубой огонек», которую держат полицейские, притворяющиеся, будто они вам друзья. Говорят, Марк стал тискать Джанет во время медленного танца, и с тех пор они вместе.
— Ну так что, Джордана? — спрашиваю я.
Она тянет ноготь, пытаясь отгрызть его одним куском.