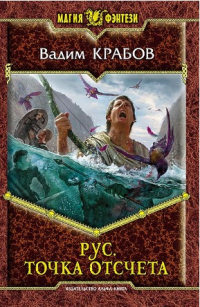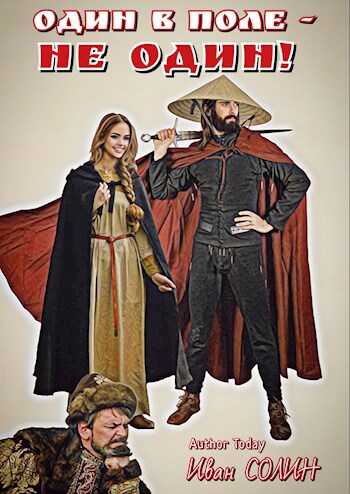– Йоккынха, – поклонилась Эльга.
Женщина издала горловой звук, будто проглотила залетевшую мошку.
– Йоккымха, – поправила она.
– Номпына тывэй нья, – подсунул букет ей старик.
– О, – сказала женщина.
Потом пихнула хихикающего мужа локтем, села удобней, разгладила складки малахая, размотала бусы на шее и поправила волосы.
– Тывэй нья!
Всему Ольлохою Эльга набила букеты из мха и северной голубели. Но и листья пригодились – полукровок было много. Торонгаи охотно принимали в своих чоломах людей Края и, кажется, даже поощряли мимолетные связи своих жен и дочерей с заезжими. Поэтому на букетах нет-нет и пробивалась ольха, а за ней – липа, а за ней – береза. Много всего!
Старейшина подарил ей свою костяную трубку, и она оказалась сродни печати на запястье. Любой чолом для Эльги теперь был открыт, в каждом почитали посадить ее ближе к очагу и накормить рыбой, мясом или ягодами. Сарвиссиана считали ее мужем, как ни уверяли хозяев в обратном.
Торонгаи были людьми наивными, непосредственными, смешливыми, в букетах часто не было второго, тайного слоя, потому что весь торонгай был в первом, похожий то на оленя, то на птицу, то на крупного медведя. В их душах были пустоши и чоломы, море, звери и длинные песни, которые поются во время долгих поездок на санях.
Узнавая себя в моховых узорах, торонгаи радовались, как дети. Букеты в чоломах размещали на жердях как можно выше, и они висели там, провожая вытекающий в небо дым.
Эльгу свозили на оленях к самому морю. Несколько часов она набивала ленивые, темно-синие волны, наползающие на холодный песчаный берег, крикливых птиц, поселившихся на прибрежных скалах, седое небо и плывущий в нем птичий пух, разбитое днище барка. Букеты несли спокойствие и простые радости, соленый ветер, простор, огромность мира вокруг.
Из Ольлохоя взяли восточнее, повернув на единственную дорогу, где мог пройти колесный фургон. Чаровень, первый месяц лета, слился у Эльги в сплошной узор из моховых пустошей и редких стоянок, чоломов и улыбчивых торонгаев в меховых малахаях. Номпына, о, номпына! Потом потянулась тайя-га, или «темное место».
«Темным местом» звался густой сосновый, еловый, пихтовый лес, протянувшийся далеко за границы Края.
Здесь жили лесорубы, пильщики, углежоги и смоловары. Лес сплавляли по местным рекам. На небольших делянках растили рожь и овес, на пасеках гнали вкуснейший темный мед. Охотились на лосей, медведей и волков. Лойда был единственным крупным городом. Страшно подумать, тридцать домов! Край для этих застрявших в «темном месте» людей был чем-то далеким, почти сказочным, знали о нем мало, в основном из новостей чуть ли не годичной давности. Да и чего знать-то, если от краевых налогов ты освобожден? Довольно и этого!
Тайя-га ничего, кроме ежедневного тяжелого, изматывающего труда, предложить не могла, что, конечно, накладывало отпечаток на людей – почти все они были хмурые, замкнутые, молчаливые, даже женщины и дети.
Отметившись у закутавшегося в меха энгавра, Эльга день просидела на городской площади, предлагая набить букет любому желающему. Никто даже не поглядел в ее сторону. Сарвиссиан попытался было уговорить на портрет одного смоловара и получил в челюсть. Будто предложил краденое.
Тогда Эльга пошла по домам, таким же кряжистым и мрачным, как их хозяева.
От услуг ее отказывались, зачастую молча с первыми словами закрывая перед ней двери. О букетах здесь не слышали и слышать не хотели. О мастерах Края думали разное, у них были свои мастера, которые знали лес и умели с ним говорить.
Кое-как за двойной эрин Эльге удалось уговорить угрюмую вдову послужить образом для букета.
– Что делать-то нать? – спросила та, заведя гостей в низкий бревенчатый дом.
– Ничего, – сказала Эльга. – Сидеть.
– А он шо делать бут? – кивнула вдова на Сарвиссиана.
Она сняла платок, распустила волосы, расстегнула перешитый с мужского плеча горжет с коротким рукавом, бросила на стол пояс.
– Ничего.
– Смотреть тоисть?
Сарвиссиан сплюнул.
– От дура-то!
– Ты иди, иди тогда со двора, – прогудела женщина. – Нам глазастых не нать.
Лицо у нее было тяжелое, но не лишенное приятности. В густом, низком голосе проскальзывали командные нотки.
– Я рядом, госпожа мастер, если что, – сказал обиженный Сарвиссиан и вышел.
– Все снимать нать? – продолжила раздеваться вдова.
– Нет!
– А шо?
Женщина застыла, недоверчиво глядя на Эльгу.
– Просто сядьте, – улыбнулась девушка.
– И за это – двойной эрин?
– Да. Я сделаю букет.
– Чудно.
– Я знаю.
Эльга сняла сак со спины.
– Так и куда мне? – заповорачивалась женщина. – Иль стоять?
– Если можно, то к печке, где свет из окна.
Вдова кивнула.
– Так можа мне в чистое?
– Не надо.
Эльга села на стул у стола, приготовила доску, запас которых почти исчерпался, обвела ладонью линии, чувствуя теплый отзыв дерева.
– Так я сажусь? – спросила женщина, не решаясь до конца опуститься на лавку.
– Да.
– Дейка! – крикнула вдова куда-то вглубь избы. – Дейка, ты жив там?
– Жив!
Из темноты дверного проема прискакал мальчишка лет семи в длинной, до пят, рубахе, видимо, отцовской. Светленький, худой, большеротый. В руках у него были грубо выструганные из сосны фигурки – лошадь и, кажется, вставший на задние лапы медведь.
– На, спрячь денежку.
– Денежка большая? – спросил мальчишка, постреливая на Эльгу карими глазами.
– Большая.
– Это хорошо.
Дейка очень серьезно кивнул и убежал. Монета – в кулачке, животные – под мышкой. Медведь, правда, все-таки вывернулся и упал.
Женщина села.
– Я готова.
– Хорошо.
Эльга запустила руку в сак, в пальцы ткнулся моховой ком, похожий на капустный кочан.
Женщина с некоторым беспокойством следила за ее манипуляциями. Была она пихта, сосна, кедр и немного здешней мелкой березы, листьев с которой Эльга успела нахватать по пути. Существовал в ней надлом, видимо, связанный с гибелью или пропажей мужа, но надлом этот уже затек смолой и со временем не разрушил окончательно, а только, пожалуй, укрепил. Сын, Дейка, был ее надеждой и смыслом теперь.
Под Эльгиным взглядом хозяйка сложила крупные, перевитые венами руки на коленях.
– Я шо, не так выгляжу? – спросила она. – Может, платок обратно?