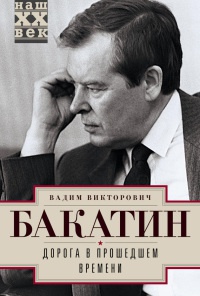— Мы должны научиться не привязываться так сильно к своим пациентам, Schwester, — сказал Юнг. — Все равно рано или поздно мы их потеряем. Либо они поправятся и уедут от нас, либо yмpyт. Такова наша профессия.
— Я любила ее, — тихо проговорила Дора. — Я просто-напросто ее любила.
— Знаю, — откликнулся Юнг. — Иона любила вас. Вы были ей очень дороги, она много раз мне говорила.
— Правда?
— Да. Много-много раз, — соврал Юнг. — Без вас она была бы совсем несчастна.
Последнее утверждение по крайней мере было правдой.
— Спасибо вам за эти слова, доктор. Они помогут мне жить дальше.
Юнг, не зная, что ответить, пожал плечами и махнул рукой.
— Почему отец убил мужа мадам? За что? Она его так любила!
— Наверное, муж ей изменял, — ответил Юнг.
Во время сеансов с графиней речь не раз заходила об ее отце, и Юнгу никогда не нравился этот образ. Отец-мститель… Кошмарная фигура! Словно злой волшебник из сказки, который появляется из тьмы и застает свои жертвы врасплох.
— Я должен покинуть вас, Schwester Дора, — торопливо сказал Карл Густав. — Меня ждет мистер Пилигрим.
— Да, сэр. Спасибо, что зашли поговорить со мной. Я вам очень признательна.
— Не за что. Примите мои соболезнования.
— Благодарю.
Schwester Дора встала и снова сделала книксен. Юнг, обернувшись в двери, увидел, как она взяла запачканные кровью пуанты, прижала к щеке и погладила, точно ручку умершего ребенка. А потом застыла в солнечном свете. Ее окружало то, что осталось от женщины, погибшей при попытке долететь до Луны: одежда и уже полузабытые часы триумфа. И пуанты. Пуанты. Пуанты.
8
Во вторник, восемнадцатого инюня, человек, назвавшийся Фаулером, принес в клинику почтовых голубей. Четыре птицы в клетке и мешочек с зерном, завязанный красной лентой. Их надо было передать мистеру Пилигриму, пациенту из палаты 306.
Старик Константин потребовал, чтобы мистер Фаулер расписался в журнале, где привратник вел учет вcex доставок.
— Голуби, — пробурчал он. — Странно. Haм никогда еще не присылали голубей. Собак — да, котов тоже, даже клетку с зябликами, но голубей — никогда.
— Мистер Пилигрим их любит.
— Я не мог видеть вас раньше, мистер Фаулер? Ваш голос мне кажется знакомым.
— Должно быть, все англичане говорят одинаково, — ответил Фаулер.
— Да уж. Я непременно запомнил бы такие великолепные усы. Похоже, ваш голос ввел меня в заблуждение.
Фаулер протянул старику Константину два франка и удалился.
Привратник снял с клетки покрывало. На него уставились птичьи глаза.
— Ну-ну, потерпите, — сказал он. — Сейчас мы отнесем вас наверх.
Он позвонил в колокольчик, и на зов старика явился посыльный.
— Отнеси это в номер 306, мистеру Пилигриму.
— Слушаюсь, сэр.
— Да смотри не урони! Клетка не птица, летать не умеет, — пошутил вдогонку старик Константин.
9
«Итак, дорогой мой друг, я обращаюсь к тебе последнийраз…» Пилигрим вернулся к началу письма Сибил, намереваясь прочесть его снова, но потом вдруг встал, подошел к столу и взял бумагу, ручку и конверт.
«Сибил, маркизе Куотермэн, — написал он. — Прощай».
Пилигрим разорвал листок и начал заново.
Бал на балконе закончился, на солнышке осталось лишь несколько птиц — две голубки и трое голубей.
Пилигрим сел за стол и написал:
«18 июня 1913 тода. Дорогая Сибил!
Я обитаю в своего рода чистилище. Как я и предполагал, мне не позволяют ни жить, ни умереть. Меня заперли в этом доме — по-моему, его называют психбольницей — и никуда не выпускают. А теперь еще вынуждают гулять в обнесенном забором дворе. Не знаю почему; подозреваю, что я в чем-то провинился. Помнится, я разбил несколько пластинок. И сломал пару инструментов. Музыкальных инструментов — виолончель, а может, скрипку. Разве это плохо? Ведь музыка ни от чето не спасает — ни от безумия, ни от насилия. Оглядываясь назад, я сожалею, что выступал защитником искусства. Но музыка — худшее из них. Сплошь кипение и бурление, перегруженное эмоциями, с одной стороны, и мыслями — с другой. Ах, Моцарт! Ах, Бах! Слушая Баха, я всегда вспоминаю белку в колесе. Она бежит и бежит по кругу — но ничего не происходит. Ничего! Та-та-та-там! Тата-та-там! И все. Та-та-та-ни-черта! Что же до Моцарта, его эмоции остались на уровне двенадцатилетнего подростка. Он так и не достиг зрелости — за исключением половой. Его музыка соединяет в себе пошлую клоунаду и профессиональное выжимание слез. Даже не слез, а рыданий. Бетховен напыщен; Шопен приторно слащав и подвержен вспышкам раздражения: там-тара-там-бабах! Вагнер — эгоцентричный зануда. А молодой турок Стравинский — тут сама фамилия говорит за себя: дисгармоничный, грубый и дует в свою дудку через нос!
Вот так.
Мне продолжать?
Литература. Разве она положит конец войне? Да ведь «Война и мир» — это повод для новых сражений! Русские — круглые дураки, их единственным союзником в победе нaд Наполеоном была зима. Кто-нибудь захочет првторить попытку? Конечно, да! Эта кошмарная книга — самое натуральное приглашение. Толстой сам воевал под Севастополем и гордился этим. А потом прикинулся, что ненавидит войну, и закончил жизнь как сумасшедший проповедник мира во всем мире (ты ж понимаешь!), прогнав в то же время жену от своего смертного одра. И это я ненормальный? Я?
Да. Так мне говорят».
* * *
Кто-то постучал в дверь.
Пилигрим положил ручку на стол.
Кесслер, чистивший ботинки своего подопечного, вышел из спальни и открыл дверь в прихожую. До Пилигрима донесся еле слышный голос: «Клетка… голуби… зерно… Фаулер…»
Санитар вернулся с клеткой. За ним следовал молодой посыльный, наполовину швейцарец, наполовину итальянец, с мешком зерна в руках.
— Сюда?
— Да-да, спасибо.
— Деньги нужны? — спросил Пилигрим.
— Нет, сэр. Молодой человек получает жалованье.
Итальянец удалился. Закрыласъ одна дверь, потом дрyгая.
Пилигрим встал и осмотрел мешок с зерном.
— Не понимаю, — сказал он. — Я должен это есть?
— Не думаю, сэр. Полагаю, это для птиц в клетке.
— Птиц? — переспросил Пилигрим.
— Птиц, — подтвердил Кесслер. — Как будто нам их мало!
Продолжая ворчать, он ушел в спальню наводить блеск на обувь.
Пилигрим развязал ленту и порылея в мешке, пытаясь определить, что там за зерно. Маис, просо, рожь и овес. И конверт.