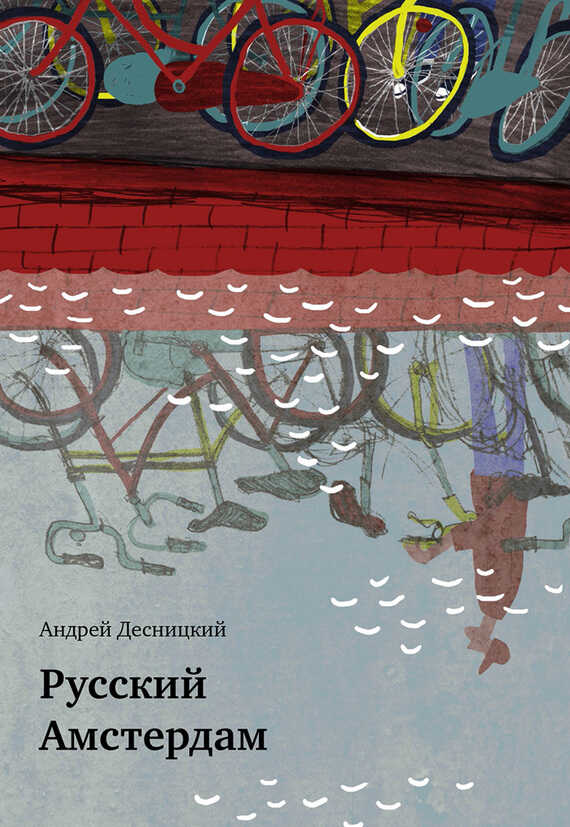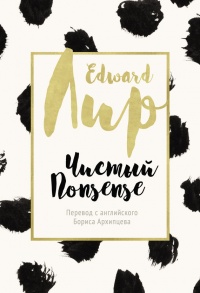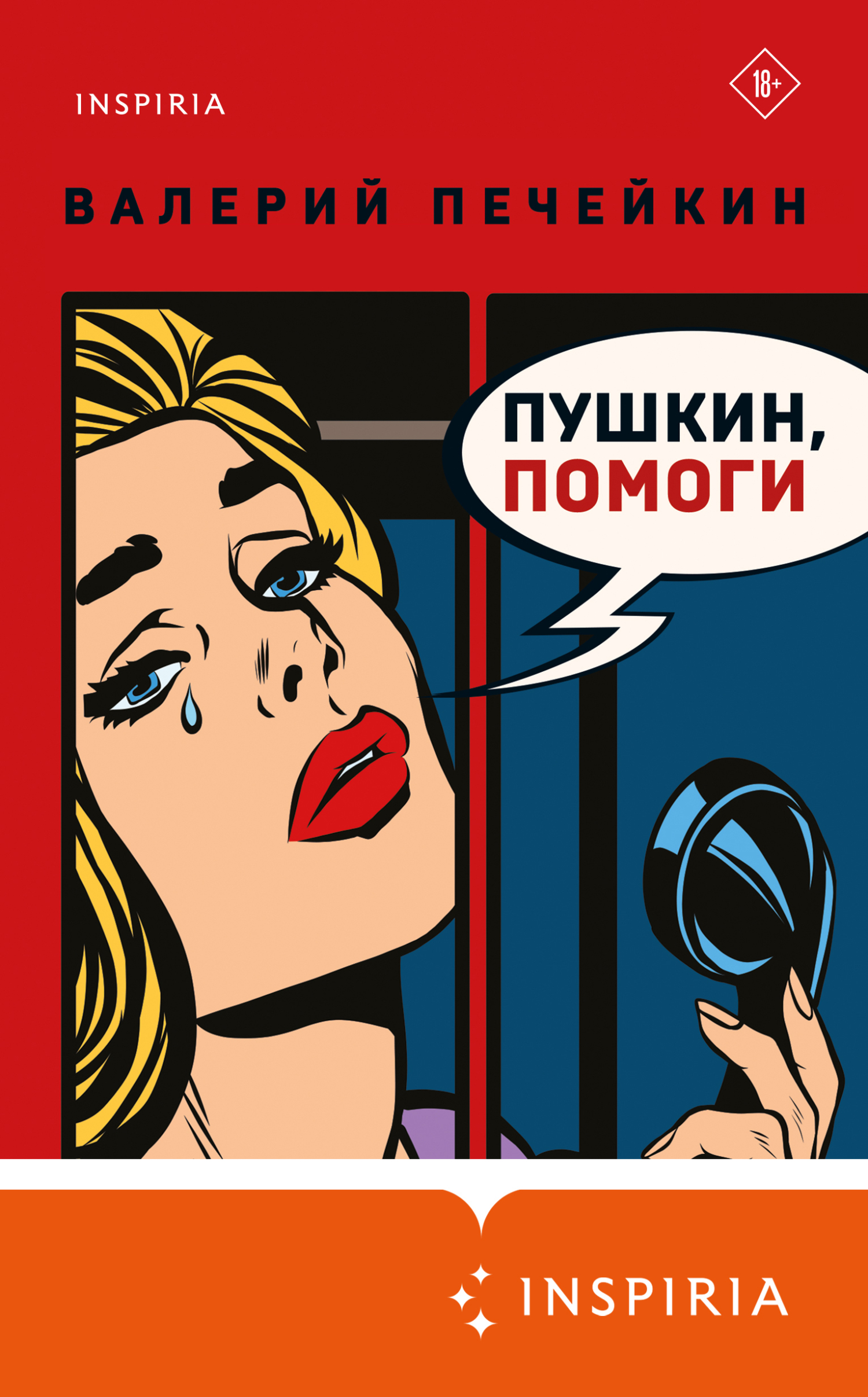по-разбойному казаки.
Так и выскочили стремглав из-за кривуна реки и увидели на левом берегу Ангары, напротив реки Иркута, острожек из ошкуренных сосновых брёвен, сияющий под солнцем золотой шкатулкой, и бегущих от него к берегу казаков с ружьями.
– Надоть причалить, батюшко, то наши люди! – крикнул помор. – Когда мы за Байкал направлялись, острожка ещё не было.
– Изба на той стороне на острову была, – припомнил Аввакум. – Сюда перебрались – отстроились. Причаливай.
Подгребли к берегу, однако сильное течение сносило лодку, но ловко брошенную Гаврилой расчалку казаки поймали, ухватились за неё, упёрлись ногами, пробороздили в галечном берегу мокрую борозду и осилили лодку, поставили боком к берегу, привязали накрепко за вкопанные в берег чурбаны. И тем и другим было радостно встретить своих русских: обнимались, целовались. Облапав друг друга, гулко хлопали по спинам заскорузлыми в работах ладонями. Обрелись и старые знакомцы, плакали, обменивались нательными крестами.
Боярский сын Яков Похабов – рослый, костяком широкий, блистал в мелкокольчатой, до колен, кольчуге, с зерцалом на груди, в круглом шеломе с наушами и шестопёром, сжав его рукой в боевой рукавице. Видом грозен, но улыбчив, он первым подставился под благословение протопопа и к руке приложился, и облапил.
– Никак на брань снарядился? – освободясь от медвежьих тисков его, поохивая, заулыбался Аввакум.
– Не-е, батько! Тебя встречаем! – зарокотал Яков. – Знамо нам было о твоём возвращении. Казаки, что Пашкова везли, сказывали, ну как тутока не прихорошиться? А то заедешь на Русь, а там царь-батюшка вспомянет: «Как там Якунька Похабов, сын Иванов, здрав ли?» А я вот каков.
– Брав, – любуясь им, похвалил Аввакум. – Да пошто в лаптях-то, сын боярский? Не по чину так-то.
– Да у нас сапоги горят. – Яков притопнул лаптём. – А энтим, из кожи берёзовой, износу нет.
Пошли глянуть на острожек. Поднялись на крут-бережок, остановились, любуясь медвяной под жарким солнцем сосновой крепостцой с одними воротцами, глядящими на Ангару, со стрельницами в истекающих янтарной смолой бревенчатых стенах-забралах.
Похабов гордился своими умельцами-казаками:
– В одно лето поставили, – живо рассказывал атаман, поводя рукой с шестопёром. – Лес-то брали прямо с корня, сушить времени не стало, туземцы-браты частенько вольничать начали. В той-то избе, на острову, – показал за руку, – житья не стало, да и подтапливало паводком. Иркут-река по весне бешеная. – Помолчал, спросил: – Не устал, батюшка? А то бы сразу и острожек освятил. Вишь, казаки в какой доброй справе? Ждали, а как же?
Казаки, их было с Похабовым двенадцать, стояли принаряженные, а при словах атамана стянули шапки, поклонились. И Аввакум поклонился им благодарно, сходил с Иваном к лодке, обрядился, как подобает случаю, зачерпнул котелком ангарской водицы, освятил, взял волосяную кисть, Ивану дал нести небольшую икону Спаса, с которой не расставался. Подошли к радостно притихшей толпе, а тут из калитки воротной гордо выступил сам сын боярский Яков Похабов с иконой-хоругвью на тёмном, залощенном казачьими руками древке. Писана икона-хоругвь, как определил Аввакум, в Сибири, должно быть, в Енисейске местным богомазом из осибирившихся русских насельников: лик Христа смотрелся одутловатым, бородка длинной и реденькой, глаза чуть раскосыми. На обратной стороне хоругви изображено Крещение Господне: смутным столбиком выставился из тёмной воды Спаситель, подле него охристым стручком изогнулся Иоанн, а над их головами крестиком мутных белил изображен, надо полагать, голубок. Краски были плоходельными, изуграф – смелый самоучка, но это была казачья боевая святыня. «Иже во Иордани креститися изволивый», – пришел на память Аввакуму крещенский отпуст.
Увидев атамана, толпа упорядочилась и с пением пошла посолонь вокруг острога. Впереди шел Яков, за ним Иван с иконой. Протопоп гудел басом, макал в котелок кисть и со старанием брызгал на стены. Трижды обошли девятисаженную по длине крепостцу и втянулись во двор. Здесь Аввакум окропил святой водой внутренний двор и стены, запоры на воротах, казачью избу. В углу острожка освятил место, где должно будет стоять церквушке, повесил на стену икону Спаса.
– Приделайте над ней голбец, и пока ладно будет, – поясно кланяясь Спасу, наказал Якову. – А там и храму бысть на месте сём.
Окропил и казаков, всю святую воду вымакал кистью из котелка, остаток слил в горсть, плеснул себе в лицо:
– И стоять ей здесь сей век и будущие. Аминь.
Задержались в гостеприимной крепостце. Аввакум до ночи проговорил с Яковом, было о чём, после исповедовал казаков, молился долго, до заутрени. Так и не прилёг до солнышка, а там и дальше поплыли вниз по Ангаре. И опять, как и несколько лет назад, казаки острожные бежали за лодкой, кричали, напутствуя, палили вверх из пищалей.
Промелькнуло устье еще одной небольшой речки, а там острова заслонили от глаз острожек. Бесконечные сосновые боры, чистые и строгие, в накинутых солнечных сетях, выступали к Ангаре полюбоваться на себя. Тут и там изваяниями стыли на каменных отстоях густорогие, статные изюбри, глядели вслед людям огромными, притуманенными древностью глазами, непуганые табуны гусей и уток взнимались на крыло из-под самого носа летящей по стрежню лодки. Все в мире ликовало, ликовало и сердце протопопа: с каждым поворотом реки всё ближе были други-единомышленники, всё ближе Русь, стряхнувшая с себя мизгиря Никона со всей его еретической липкой сетью, Русь святособорная, древлеотеческая, под охранной десницей очнувшегося от наваждения царя-батюшки. Летела лодия, несла к заждавшимся чадам Сибирью выкованного пророка.
У каждого острожка и зимовья останавливалась ладья Аввакума, и всюду, как родных, встречали их люди. Тихо стояли на молебнах, благоговейно внимали проповедям, смахивали слёзы под рокочущий бас протопопа, крестились двуперстием. От каждого выслушивал исповедь, причащал, так и до Братского острога добрались благополучно, даже грозный Падун пропустил лодку меж скальных лбов, поиграв ею, как веретенцем, в пенистом водовороте. Увидел Аввакум башню, бывшую ему тюрьмой мёрзлой, перекрестился, вздохнул, вспомнив, как маленького Ивана не подпустили повидать в ней батьку, как выпнул парнишку за ворота в мороз лютый Кривой Василий. И собачонку милостивую помянул. Жива ли?
Острог за прошедшие годы отстроился: венчала его деревянная церковь и высились стройные по углам башни, даже появилась слобода – избами отшагнувшая к Ангаре, а там баньками разбежавшаяся по берегу.
Причалились к знакомой верфи, где на стапелях стояли дощаники, копошились плотники, рядом на помостах-козлах мужики в разноцветных рубахах – одни сверху, другие снизу – лихо распускали брёвна на доски, слышался шорох пил, брызгали наземь оранжевые опилки. Тут пахло прелью слежавшегося соснового корья, от груд опилок и щепья щекотало ноздри. К лодке сбежался весь люд острожный, стояли, разглядывая приезжих, кланялись. Аввакум не заметил средь них знакомцев. Это были новые люди – пашенные крестьяне с жёнками и