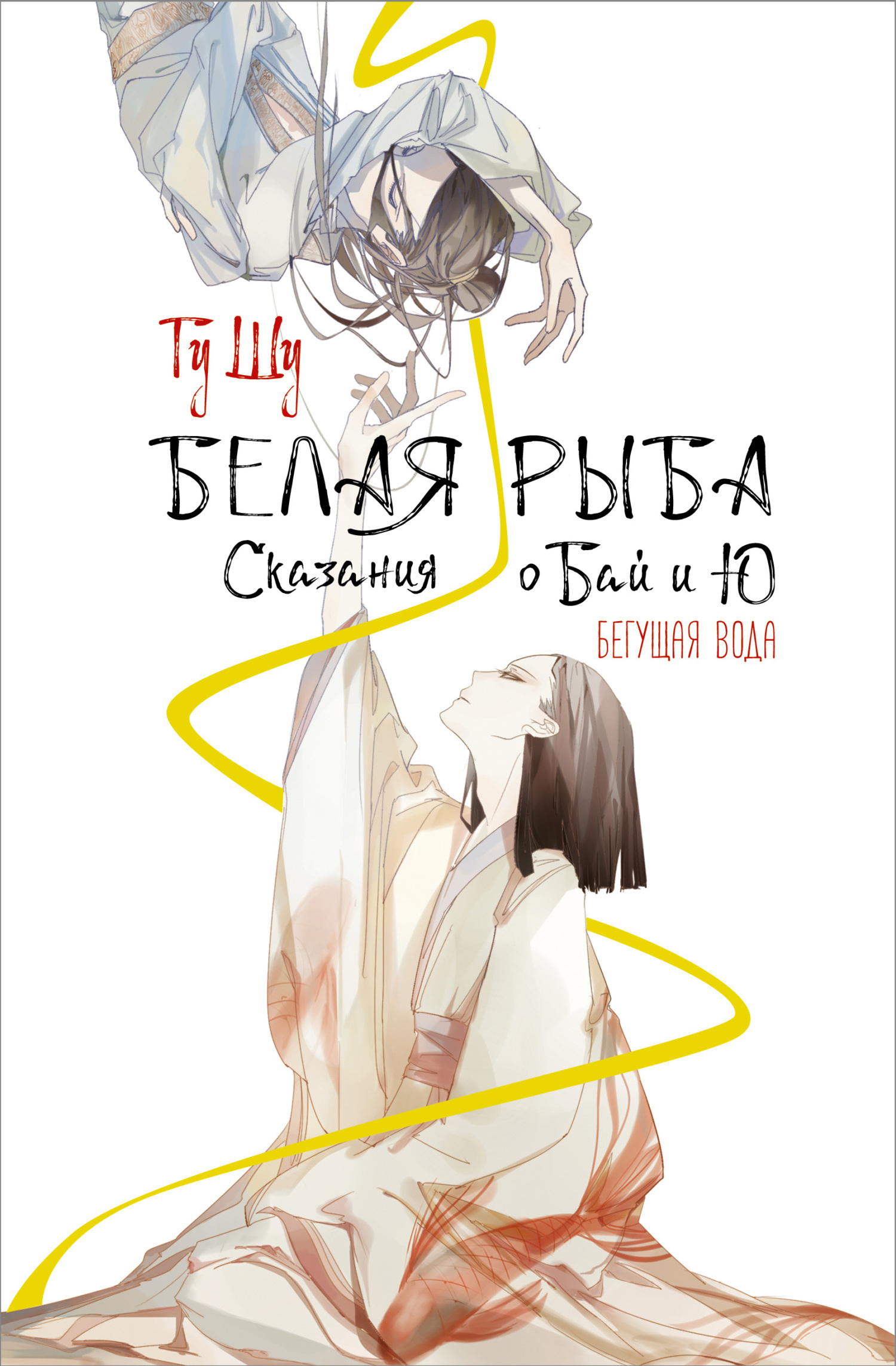со слезой в голосе вскричал Божко, опять оказавшись на земле. — Совсем одичал? Пусти!
Рычит волк, губу поднимает. Мог бы, заговорил. Божко утёр нос кулаком, шмыгнул, остановился. Волк заметался — ни прута, ни куста! — и лапой землю рыть принялся. Торопится, пишет, сам тут же неосторожно затаптывает. Всё же слово сложилось, а Божко прочитал.
— Бело поле, — говорит. — Что — бело поле?
Да тут же и отшатнулся, кричит:
— Да ты волколак! Откуда бы зверю грамоту знать?
Волк головой мотает. Божко хотя и боится, да любопытство пересилило, не бежит. Опять скребёт землю волк.
— Про… — читает Божко. — Прокл… Ты проклят? А Дарко знал, когда тебя продавал? Знал?.. Не продавал?.. А кто ещё о тебе знал? Умила знала? А дядька Невзор? А тятька мой?.. Да что ж это, мне одному не сказали?
Стоит, губы дует. Шапка с льняных волос слетела, волк её с земли поднял, подал.
— Да что — бело поле? — обиженно спросил Божко, стряхивая с шапки налипшие хвоинки.
«Уйду», — пишет волк.
Довольно ему по лесу бродить, себя жалеючи. Проклят — значит, такова его доля. Будет ждать, покуда человечий облик вернёт, так и всю жизнь прождёт. Ничего, небось и в этой шкуре что-то может.
— Уиду, — бормочет Божко. — Поле бело… Бело поле… — и догадался: — В Белополье уйдёшь?
Волк закивал.
Если выручать Добряка, так теперь, а идти некому, кроме него. Да скажи мужикам, начнут отговаривать или, хуже того, соберутся и с ним поедут. А куда им ехать, таким-то?
Да вдруг понял, что они ведь всяко поедут. Услышат, что он в Белополье подался, и пустятся следом, хотя израненные да на ногах едва стоят… Заторопился он добавить, чтобы Божко никому ничего не говорил.
— Мчи, — прочёл Божко. — Шибко срочная весть, мне бечь надобно?
И уж навострился бежать. Визжит волк, землю роет — молчи, мол! Молчи, а не мчи!
— Так на что ж ты мне об том поведал, ежели не велишь никому сказывать? — смешно подняв брови, спросил Божко и почесал в затылке, сдвинув шапку на лоб. — Да кто ты и вовсе такой? Тятька мой нынче из Белополья вернулся, а чего ездил, не сказывает — не из-за тебя ли?
Фыркнул волк. Тятьку своего пусть и спрашивает, пора бы уж этой правде выйти наружу.
А Божко совсем перестал бояться и пристал с расспросами — и бывает ли волк в человечьем обличье, и кто он таков, и чего они всё ищут в Белополье.
— Знаю! — ахнул он вдруг. — Ты и есть тот, кто у Невзора жил. Это ж ты меня укусил!
Насупился он, поглядел сердито, шею потёр. Там небось и следы зубов остались. Волк глаза отвёл.
— Ну, добро же, — сказал Божко. — А ведь я тебе жизнь спас! А ведь я-то горевал, когда думал, что тебя продали, а нынче слышу волчий вой и думаю: отколе бы волк у опушки взялся, уж не наш ли чёрный вернулся? Вот и пришёл поглядеть. Я-то, я-то, а ты-то!..
Тут он, видно, вспомнил о дне, когда они повстречались в первый раз, а может, и о том, отчего Завид его кусал, и раскраснелся, как в бане. Оба хороши, что уж тут.
— Надо тебе уходить, так иди, — сказал сварливо. — Тайну твою сберегу до поры, да ежели покажется, что надобно её открыть, так я Невзору скажу.
Кивнул волк, согласился. На задние лапы встал, поклонился насмешливо, да и нырнул в туман.
Бежит он то лесом, то берегом, спешит ночными дорогами. Снег его след заметает, дожди размывают. То к свиньям в хлев заберётся, наспех похлебает варева из корыта, то у цепного пса кость утащит. Было дело, бабу напугал у сарая — та руками всплеснула, ахнула. Яиц собрала, да вот выронила, волк тут же подхватил, что успел.
Засыпает он то под ракитовым кустом под шёпот реки, то под старым вывернутым сосновым корнем. Сквозь сон ему всё мерещатся шаги, всё ловит их чутким ухом. Не леший ли приходит глядеть, что за гость ночует в его владениях?
У Косых Стежков на волка псов спустили, ушёл. Дальше у реки его рыбаки приметили, что-то кричали, да он не разобрал. Долго ли, коротко ли, уж лапы сбил, а добрался до Белополья. Стороной обошёл, да и вышел к камышовой заводи, Раду решил звать. Знала ли она, кто её загубить пытался, кто разбойников послал? Может, она что о колдуне скажет.
Безлюден вечерний берег. Шуршат сухие камыши, вода черна. Мечется волк, лапы мочит, зовёт:
— Ра-уа!
Долго звал, уж охрип. Добро, час поздний, никто его не увидал. Может, у мельницы и слыхали, да никто не сунулся глядеть.
Вот уж луна поплыла по воде, а вот разбилась, закачались на волнах осколки. Показалась водяница, в нечёсаной светлой косе речная трава. Глаза трёт, зевает:
— Почто спать не даёшь? На дно утащу, в омут!
Пригляделась, узнала.
— Ведь это ты, — говорит, — птицу-жар добыть хотел? Что ж, не сумел? Птица-то на воле, что ни день, к царю в сад летает, золотые да серебряные яблоки клюёт. Как над нашей рекою летит, так будто солнышко разгорается. Теперь уж её не поймаешь, не дастся. Ежели помощи хотел, так зря пришёл.
— Ра-уа! — упрямо повторяет волк.
— Рада тебе нужна? На что? Не докличешься, да она уж и прежнюю жизнь позабыла, тебя не вспомнит.
Что волку делать? Ухватил зубами сухой жёсткий стебель, пытается что-то писать. Гнётся стебель, ломается, на холодном речном песке и следа не остаётся. Тут за спиной плеснуло — ушла водяница, даже глядеть не стала, что он хочет поведать.
Взвыл тут волк. Небось и на том берегу леший услыхал, вздрогнул.
Показалась опять водяница, да не одна. Привела вторую, темнокосую.
— Ты уж потолкуй с ним, Чернава, — просит, сама зевает. — Пишет, пишет, а я грамоте не обучена…
Чернава вышла из реки по пояс, да тоже глядеть не стала, а спросила:
— Ведь ты Раде будто не чужой? Не вынесла она, всю нелёгкую память на дне речном оставила, больше ни мужа, ни дочери не помнит, а им помощь надобна. Люди злы, а ежели чего боятся, так вдвое злее. Всякое говорят у реки, да на мосту, да у мельницы. Погубят они Марьяшу. Защити!
Молчит волк, не спешит соглашаться. У него свои заботы. Разве царёв побратим за свою дочь не заступится?
— Защити! — то ли просит, то ли приказывает водяница. Щучьи зубы оскалила, в глазах зелёный огонь разгорается, в чёрной мокрой косе луна блестит. — Защити, мы за это тебе поможем в трудный час.