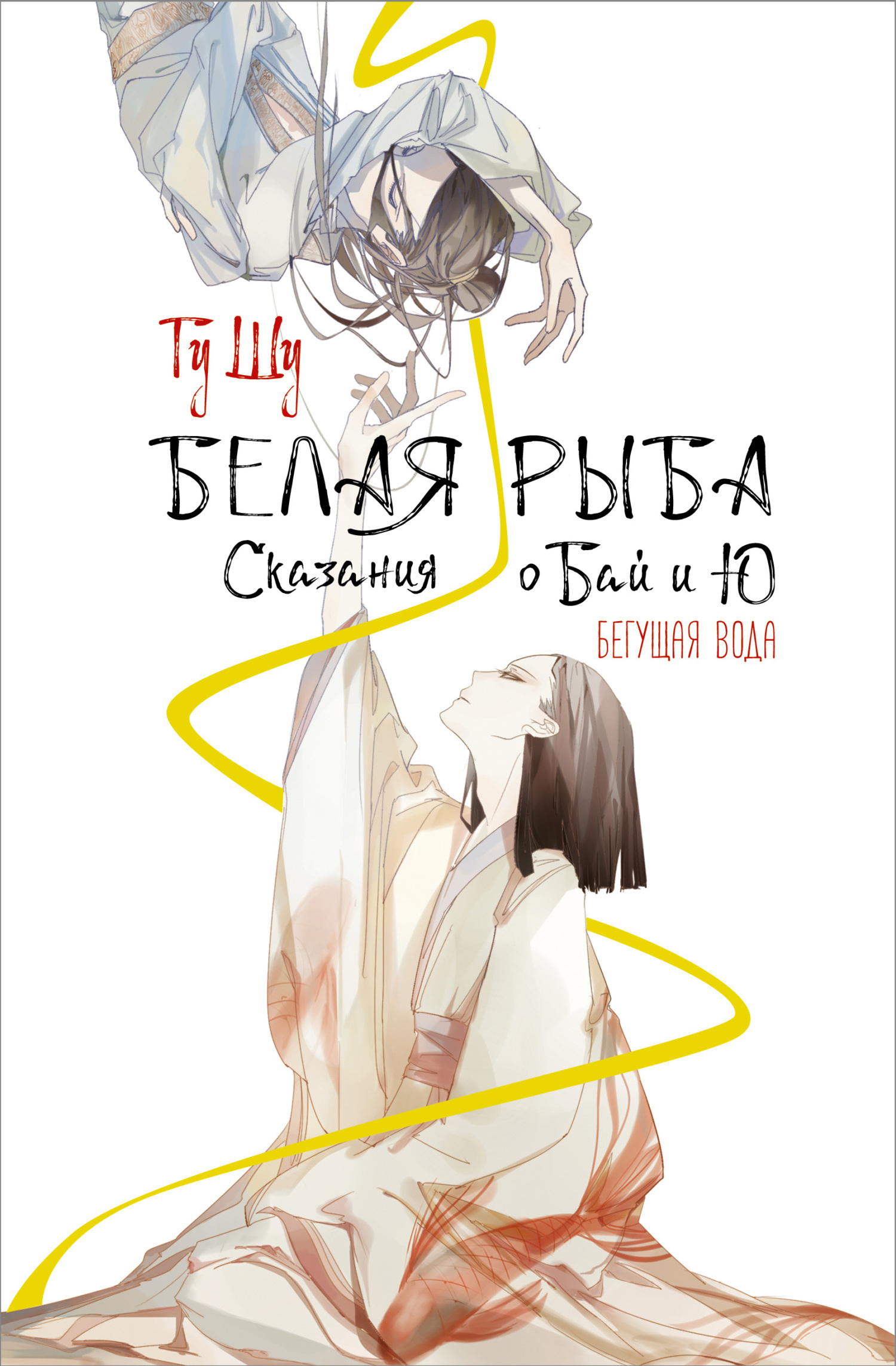после изба перевернулась, пол ударил в спину, ворот шею сдавил. Охнул Завид и своего голоса не узнал. Руки к горлу вскинул, а у него уж не руки — волчьи лапы.
— Что ты натворила, матушка! — вскричала Умила. К Завиду кинулась, рубаху на нём рвёт, сама белая, глаза дикие. — Что ты натворила!
Бажена встала, дрожит, руку протянула, да как закричит:
— Это всё ты виновен, приблуда! Не зря колдун тебя проклял, ты всё заслужил, с добрыми людьми несчастья не стрясётся! А ты, — Умиле велит, — отойди от него! Твой батюшка жизни не пожалел, чтобы его выручить, да этому что? Хочет волком ходить, так и пусть ходит волком!
Завид кое-как из одёжи выпутался, зарычал на Бажену, оскалил клыки. Умила его обхватила за шею, держит.
— Не надобно! — молит. — Не надобно!
Дарко с лавки встать пытается, да палку уронил, без неё и подняться не может.
— Угомонись, брат! — просит.
— А-а, в моём же доме на меня бросаться вздумал? — закричала Бажена, поднимая ухват. — Я те брошусь! Пошёл вон, чтобы и духу не было! Убирайся, не то охотников позову, шкуру сдерут, зверю и смерть звериная!
Кинулась она на волка, да Умила на пути встала, руки расставила, закрывая его собой.
— Не смей за него заступаться, прокляну! — воскликнула Бажена, толкая дочь. — Пусти!
Но та не пускала, всё цеплялась за неё. Бажена, отбросив ухват, упала вдруг на колени и, обхватив голову руками, тяжело, надрывно завыла, раскачиваясь.
Завид толкнулся в дверь, ещё и ещё, и когда она поддалась, выскользнул прочь и понёсся к лесу.
Глава 26
Холоден и тёмен лес. Дрожат оголевшие берёзки, не к кому им прижаться, негде укрыться. Они, белые, даже в сумерках далеко видны. Морозный ветер, пахнущий хвоей и палой подмёрзшей листвой, посвистывает в ветвях, шуршит в сухой траве. Поскрипывают старые сосны, подпирая небо. К небу летит отчаянный, жалобный волчий вой.
Бредёт волк, сам не зная куда, и горько ему. Отпустил птицу, отчего-то ему почудилось, что так будет верно, да не ошибся ли? Никакой награды за это не получил. Да ещё колдун этот проклятый, если б не он, разве бы так обернулось!
Фыркает волк. Он-то не виноват, что колдун им встретился — что он, звал того колдуна, искал его помощи? — а стыдно…
И от Бажены худого не ждал. Разве он Добряка за язык тянул, в спину толкал? Тут и самому легче было пойти с колдуном, совесть бы не заедала. Так ведь сам и вызвался! Он Добряка ни о чём не просил, а теперь, поди ж ты, виновен остался.
Шибко озлился волк. Почитай всю ночь бродил да выл у опушки, и хоть бы кто к нему вышел, хоть кто утешил. Дарко ещё этот с его травой — на что он её за пазухой носил, отчего было не бросить по дороге? Да что ему, разве поймёт, каково это — бояться травы, каково это — зверем жить, дни считая!
Трясёт волк головой, хочет позабыть злые Баженины слова. Вишь ты, с добрыми людьми несчастья не приключаются! Ей бы кто так сказал…
Да ещё стыдно ему. Повторяет себе: никого ни о чём не просил, сами навязались, в чём его вина, — да ведь худо так думать, несправедливо. Ему помогать взялись, а он и слова благодарности не сказал. Видать, волчья шкура ему в самый раз, если он обхожденью не выучился.
Стыдится, вздыхает, после снова озлобится: отпустил птицу, и что? Будто он в стороне сидел, когда её добывали! Тоже ведь сделал немало. Это он к водяницам придумал пойти, вызнал про сокольничего, это он загадки отгадывал, в бочке день промаялся. Он, припомнив, какие с Тишилой да с Первушей дела затевали, подсказал про костяного медведя и ходил к кузнецу за зелёным огнём. Так что ж он, права не имел отпустить птицу?
Люди, может, только таких, как Ёрш, понимают: сына спас, и что ж, что чужое дитя на муку обрёк. Урви своё любой ценой, а там думай, как грех замолить! Вот как живут.
Вот уж и ночь ушла. От реки туман стелется, подъедая снег, оставшийся кое-где меж серых трав. Не с кем словом перемолвиться, некому душу излить, спросить: что же он, худо сделал? Не на его стороне правда?
Тоскливо, плохо волку, не знает, как эту боль избыть. И Умила к нему не вышла. Он ведь знает, отчего не вышла, понимает, что не может она мать оставить, а чей-то ехидный голос будто шепчет: Умила тебя, приблуду, во всех бедах винит. Одно ей горе от тебя! Обещала ждать, да вот поглядит, что ты всё волком бегаешь — и сколько ждать? Никакого терпенья не хватит. Да если что с Добряком стрясётся, навеки это встанет промеж вас…
Выбрел он к опушке, поглядел на деревню, а домов и не видать — туман. Ни реки, ничего не видать. Будто один в целом свете остался, все его покинули.
Тут слышит он за спиною голос, негромкий, радостный:
— Волчок! Да ты воротился ли?
Божко явился некстати, не иначе как на свою беду. Ведь худо волку, а кто в том повинен? Сорвали с него малого на том далёком лугу рубаху, человечью жизнь с нею отняли, взамен оставили волчью шкуру и тяжкую долю. А кто с рубахою его жизнь себе взял?
И ахнуть Божко не успел — волк на него бросился. Повалил наземь, оскалился.
— Стой! — кричит Божко, руками лицо закрывает.
Руки у него есть, лицо, голос. Живёт себе. Небось его не назовут дурным человеком за то, что с ним беда стряслась, не скажут: мол, так и надобно!
Алая ярость застила волку глаза. Вцепился, треплет, уж рукав прокусил, а что дальше бы сделал, и сам того не знает, да чует — что-то ударило в лоб. Вот опять. Ударило, и жаворонок сердито кричит, налетает, встрёпанный, серый. Волк растерялся, мотнул головой: откуда бы взяться жаворонку в предзимнем лесу?
Тот сел у соснового корня. Волк только моргнул, видит — нет никакого жаворонка, лежит на земле трухлявая шишка. Фыркнул он, ничего не поймёт.
Тут его будто холодной водой окатило: парня едва не загрыз! Божко-то в чём виновен? Он ведь о проклятии и не знает, не по его воле всё делалось.
Попятился волк. Божко ещё полежал, закрываясь руками, да вот боязливо поглядел сквозь пальцы, перевернулся, и ходу! Только волк не пускает, за тулуп хватает да тянет, вперёд забегает, путь заступает.
— Да чего тебе? —