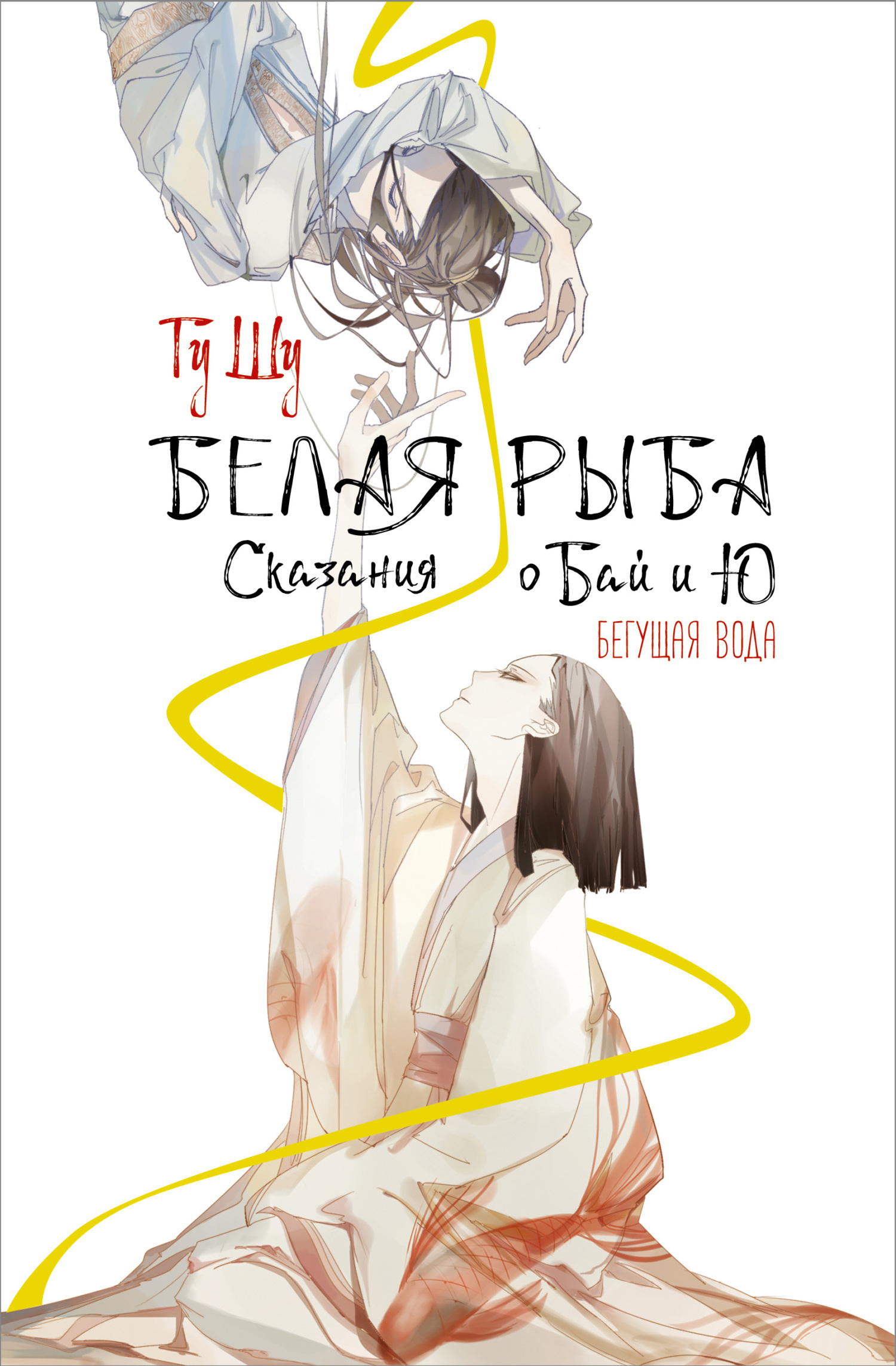про себя за трусость корил, да Пчела-то ведь только за-ради него в Белополье и ехал. Мог и дома остаться.
Что там, даже и Ерша совесть заела, а ведь мог бы смолчать, в стороне отсидеться, о прежней его вине никто бы не прознал. Даже и Ёрш на помощь пришёл, чтобы проклятье снять. Всё за-ради этого мига…
Занёс нож Завид, взял птицу за шею. Она моргнула, да и прикрыла глаза тонкою плёнкой век, только чуть трепыхнулась. Уж коснулся он её ножом, да застыл, стоит.
— Чего тянешь? — поторопил Невзор. — Дождёшься, что кто-то поедет по дороге. Сколько возиться-то можно, доделывай!
Решился Завид, опять занёс нож. Сердце сжалось, к горлу подкатило. Примерился он, да и резанул.
Стоит, голова пустая да лёгкая, будто и мыслей не осталось, а в ушах звон. И сквозь этот звон будто издалека слышатся крики:
— Что ты сделал то, зачем? Дурень!
Птица на рябинках сидит, клювом разрезанную бечёвку с лапы снимает, на Завида чёрным глазом косится.
— Ты уж прости, — говорит ей Завид. — Ты ведь в моей беде не виновата, не хочу я твоею волей за свою платить. И так взаперти насиделась. Лети себе, сыщи дом! Уж верно, моё проклятие и иначе можно снять.
Ахают мужики за спиной, да он только на птицу глядит. С ними после поговорит.
Упала бечёвка, заколыхалась в воде. Расправила птица крылья, взмахнула ими, и такое сияние разлилось окрест, будто солнце на землю спустилось. От крыльев, от хвоста золотые лучи потекли — распахнулись крылья в полнеба!
Попятился Завид, глядит, жмурясь, глаза руками прикрыл. Взлетела птица, огнём горит, её уж и не разглядеть. Сама-то была махонькая, а теперь от света кажется, будто велика. Пронеслась она над рекой огненным вихрем, искры рассыпала, да и умчалась к Синь-озеру. Вот уж искры погасли и день посерел.
Глядит Завид ей вслед. И радостно ему, и обидно. Он будто чего-то ждал — что она ещё пролетит над ними, что запоёт, что перо уронит, — да птица улетела, и только.
— Вот так, значит, решил? — сурово произнёс Невзор. Не понять, ругал или нет.
— Ежели так показалось лучше, то оно будто и верно, — вступился Дарко. — Цену-то, вишь, и самому платить, грех на душу брать, дале с этим жить. Один сумеет, другой нет. Руку, ногу переломишь — сживётся, а душу переломишь, не сживётся.
Ёрш глаза отвёл, смолчал. Он-то лучше других знал, каково жить с этаким грехом.
Домой они ехали молча. Вздыхали, не без того. То один, то другой глядел на осиротевшую клетку и брошенный в ней мешок.
— Ничего, — сказал Дарко однажды, — мы ведь не знаем, что бы с того было. Проклятие, может, и не вышло бы снять. Такую птицу изведёшь, может, и беду на себя накличешь!
Слова его упали в пустоту. Никто не ответил.
Кое-как по раскисшей дороге добрались они до дома. Горазд выглянул на шум, да так и выскочил за порог, сам рад-радёшенек, беззубым ртом улыбается.
— Воротилишя! — приговаривает, руками всплёскивает. — А волчонок-то наш парнем — что же, вшё удалошь?
Да видит, они молчат да хмурятся, у Невзора тулуп на одно плечо вздет, а Дарко ногу в лубке вытянул, сам с телеги слезть не может. Стала растерянной его улыбка, а там и погасла.
Поведали они ему, как было: и о колдуне, и о Добряке, и о том, как птицу отпустили. Он лишь охает да головой качает.
— К Умиле пойду, — говорит Завид. — Надобно им сказать. Кому, как не мне, идти.
— Погоди, я с тобой, — говорит Дарко. — Сыщите мне какие-никакие подпорки!
Как Завид ни отнекивался, Дарко не отвязался.
— Бажена-то крик поднимет, — говорит. — Небось и досюда слышно будет! Тут, брат, одному не управиться, вместе пойдём. Вместе оно легче, значит.
Сыскали ему палки. Идут улицей, не спешат, мало не у каждого двора останавливаются, ведь людям-то любопытно, куда ездил Дарко и что с ним приключилось. Он врёт напропалую: мол, у Синь-озера товары носил то на корабли, то на берег, да вот оступился и ногу свихнул, придётся теперь костылять.
Люди, ясно, спрашивают, что видал да что слыхал, да много ль заработал, им только дай языки почесать. Уж и вечереет. У Завида тут и терпения не стало, плюнул, вперёд пошёл. Дарко его зовёт, кое-как спешит за ним по разбитой дороге, да не угонится.
Вот уж и двор Добряка. Помедлил Завид, вздохнул, постучал в дверь.
Ему Бажена открыла. Стоит на пороге, в дом не зовёт, слова не говорит, кого-то за его плечом выглядывает.
— Да где ж этот беспутный? — наконец сварливо спросила. — Ну, отвечай, али воды в рот набрал!
Дарко тут подоспел. Сам запыхался, умаялся, уж едва стоит.
— Ты, хозяйка, в дом-то нас пригласи, — говорит. — Беда стряслась, на пороге об этаком не скажешь.
Всплеснула Бажена руками, да как ахнет, с лица цвет сошёл.
— Жив он, жив! — поспешил вставить Завид. — Жив-здоров, да вернуться покуда не может.
Позвали их в дом, за стол усадили. Умила вышла, так к Завиду и кинулась, за руку взяла, не отпускает. Слово за слово, поведали они, как птицу добывали, и как их колдун приметил, как он принудил Добряка ему служить.
Умила глядит испуганно, будто вот-вот заплачет. Завид её ладони сжимает, приговаривает:
— Мы уж поймём, как ему помочь, мы его не оставим!
Бажена ходит, стиснув губы, от полки к печи, от печи к коморе, на стол накрывает. Будто онемела, слова не проронит. Рассказали Дарко с Завидом и о птице, как её отпустили, тут у Бажены из рук миска выпала и раскололась.
— Я приберу, матушка! — торопливо сказала Умила, вскочила.
Дарко из-за пазухи вынул сухие травы, на край стола положил.
— Брось их в огонь, — говорит. — Вот, значит, думали проклятье снять, да иначе вышло, а я их всё с собою ношу.
Бажена молча сгребла сухой пучок и пошла к печи.
Вот уж стоят на столе миски, паром исходят. Завид мочёное яблоко взял, да вкуса не чует. В глазах Умилы слёзы звёздами горят. Себе не помог, ей горе принёс…
— Выручим мы твоего батюшку, — всё повторяет он, только и сам в это не верит. Ведь если бы знали, как выручить, не стали бы уезжать, его бросать.
Бажена перед ним ложку положила, уставилась, молчит. Ему и кусок в горло не лезет, да негоже обижать хозяйку. Зачерпнул горячее варево, ест, а что ест, и сам не разберёт. Уж всё одно.
Ест, да вдруг голова закружилась — от чада, что ли? Стол ближе стал, а