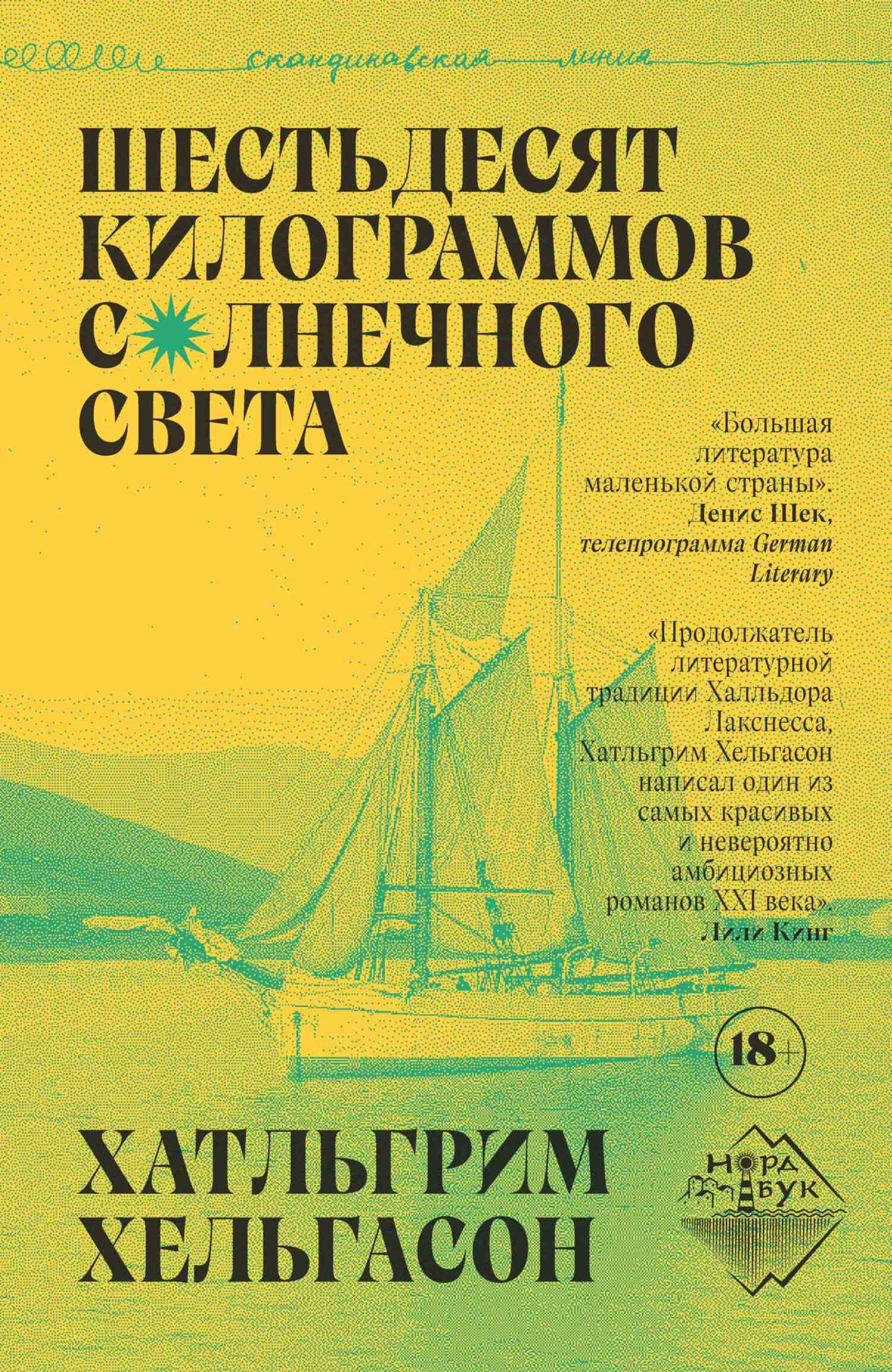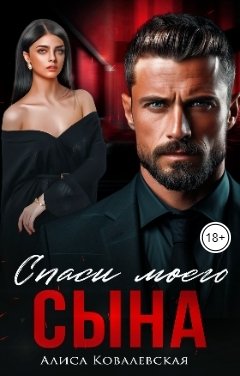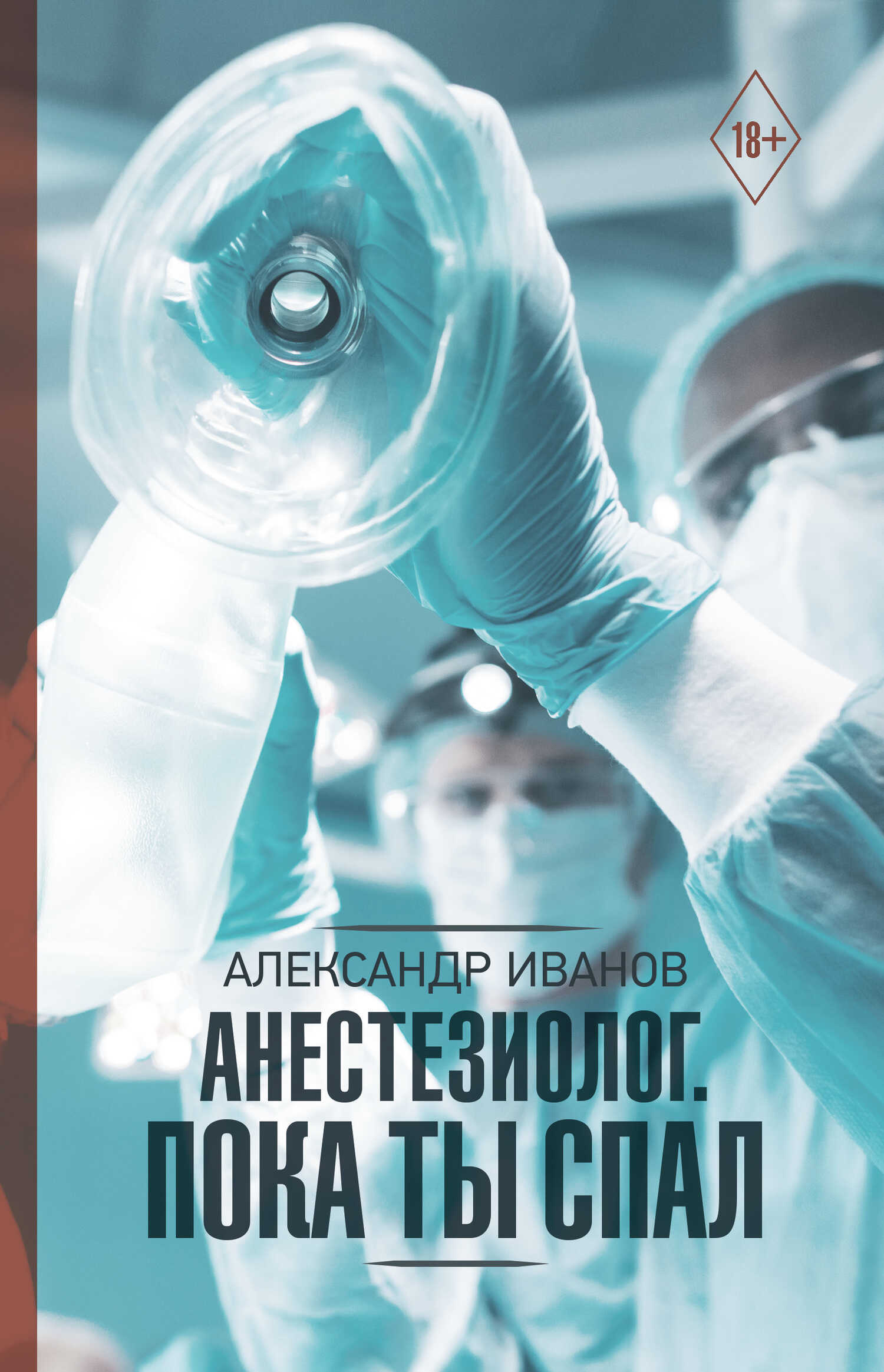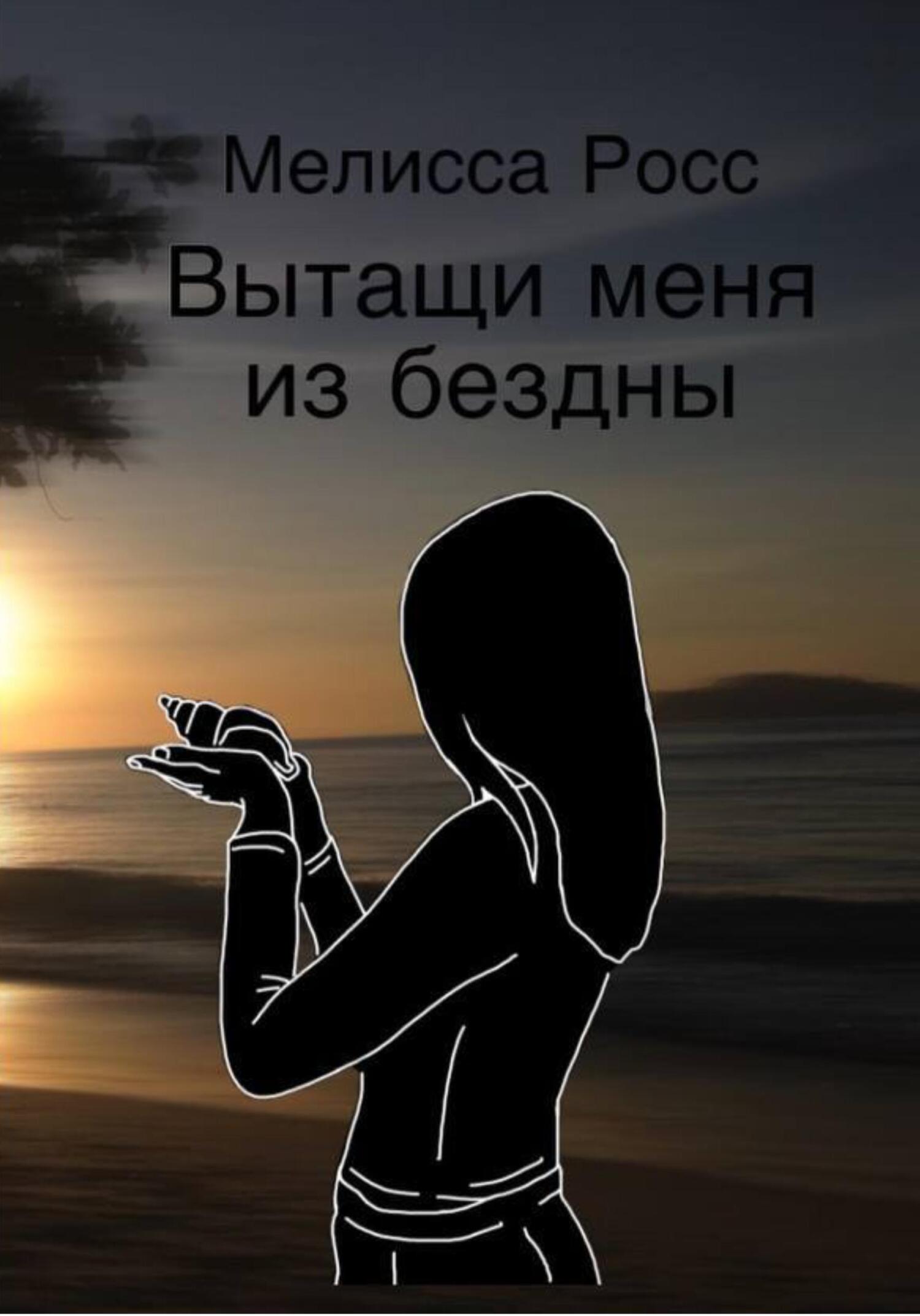Он мне ничего не сделал, потому что это не я, я не здесь. А когда я вернусь сюда – я буду прежней, чистой. Ничто не может победить добрую душу. Ничто не может запятнать чистую деву.
Но жизнь – строгий учитель, она требует от нас приходить на все уроки, даже те, которые нам разрешили пропустить: в последующие недели происшествие в сеннике не давало Эйвис покоя, словно шаловливый чертенок, впрыгивало в ее сознание с крыши коровника, из сточной канавы, поджидало ее за углом конюшни, нашептывало ей из подушки по вечерам. В решающий миг ей удалось выйти из тела, но сам этот миг никуда не исчез: и сейчас он приходил к ней маленькими порциями по пять раз в день. Большой кусок лучше всего нарезать помельче. И постепенно ей удалось проглотить его весь. Она неделю не вставала с постели, на вторую неделю ей было больно садиться на скамеечку для дойки, в третью она страдала запорами, мало ела и молчала. Когда тело забыло все – она тоже забыла, вытолкнула искаженное лицо отца прочь из своих мыслей и больше не видела его, а за столом смотрела в свою тарелку или на мальчика. Она больше не видела отца, хотя и сидела с ним за одним столом каждое утро и каждый вечер. А почему она попросту не ушла? Порой она спрашивала об этом теленка. Теленок отвечал своими большими глазами: я уйду раньше тебя.
И постепенно для нее все начало проясняться. Она уже не смотрела на вещи большими, но примитивными телячьими глазами. Сейчас она видела: то, что с ней случилось, относится к сексу – это слово она слышала от Данни возле кладбищенской ограды на Болоте; тогда она слышала его впервые, однако поняла, что оно означает, хотя само слово было непонятным, в нем жили нагота и первобытные инстинкты, как будто это был тайный пароль к самой жизни, суровое слово – но она знала, что в нем также скрыта болезненная нежность. Холодное слово для горячего явления. Жесткое слово – для мягкости. Именно так он ее и одолел: суровый – на мягкое, закаленный – в ее святая святых.
Даже звери не смотрят на секс своих родителей. Никто не хочет лицезреть те низменные инстинкты, которые вызвали его к жизни. И никто не хочет, чтоб ему пришлось стонать от тех же самых инстинктов. Изнасилование собственным отцом – самая ужасная участь для девушки. А она это испытала – Эйвис. А после этого жизнь была простой. Этим летом в долине было много смертей. Целое поголовье овец, бараны и собака. И ее детство. Она сама похоронила его тайком. А врач сыграл на английском рожке.
Память – как болото. Тяжелые вещи она поглощает, а маленькие и красивые оставляет на виду: взору открывается белая пушица. Но кто попытается поднять со дна старый лом или трактор, тот сам потонет.
Глава 35
Они приехали на трех джипах, одном грузовике с платформой и четырех тракторах с одним прицепом: как будто на Хельярдальскую пустошь явилась целая армия. И заняла эту землю.
Погода была в соответствующем стиле. Семь ленивых ветров гнали каждый по шестнадцать кудрявых облаков к восточному краю небес. Солнце без особого рвения бросало на них свет. Таков был август в Исландии. Лету больше не хотелось ничем заниматься.
Последний раз принудительный аукцион в этой высокогорной местности проводился в 1923 году, когда Йенса с Мелкоозера выволокли из дому в исподнем белье, и он при этом распевал «Прекрасен наряд отчизны». Старики до сих пор смеялись над этим.
Нет ничего веселее, чем быть свидетелем невезения другого – особенно если этот другой – давний знакомец. В нас встроено какое-то проклятое предвкушение, какая-то гадкая радость при виде унижения наших друзей перед нами. Съехалась вся округа. От председателя с Болота и до торговца из Лисьеречной долины. Правда, сислюманн удовольствовался тем, что прислал двух уполномоченных: Сыра Харальдссона и его ассистента.
«Да, прекрасен же был “наряд отчизны” у Йенса с Мелкоозера, когда его из дому выгоняли, хо-хо», – сказал какой-то старик из-под стены пристройки. Там стояло несколько человек, они курили сигареты: Сигмюнд с Камней и двое смеющихся мальчишек с Верхнего Капища, а еще этот широконогий старик, держащий руки в карманах. Бальдюр с Межи тоже стоял там, но не курил, а к углу подошел старый Эферт с Подхолмья, у которого теперь были трость и шляпа, и ходил он медленно, с открытым ртом и сильно перекошенным лицом; он подплыл к углу пристройки, словно человек в посмертной маске. Мальчишки вытаращили на него глаза, а старик тем временем продолжал рассказывать про Йенса. На фермера с Подхолмья кто-то нахлобучил весьма городскую шляпу, но вид у него был все такой же деревенский. Сейчас он наконец закрыл рот, сжал челюсти, но потом снова открыл и издал одно долгое: «Ааа?»
– Ишь, какие мы шикарные стали: и шляпа, и трость! – сказал Сигмюнд.
– Да, хе-хе, – раздался голос старого кота. – Не каждый же день в нашей местности моцион проводят.
Мальчишки с прыщавыми лбами похватались за животы, чтоб сдержать смех. Сигмюнд усмехнулся:
– Моцион? Ведь это же аукцион!
– Ааа?
– А что со здешним «Фармаллом»? – спросил Бальдюр с Межи.
– Хе-хе… А с мальчиками-то что? Живот прихватило? – спросил Эферт, глядя на подростков.
– Да это, небось, от курения, – ответил широконогий старик, которого звали Ауки с Брода.
– А-а, хе-хе, а вообще-то гораздо лучше видеть, что молодежь курит, как нормальные люди, а не жует эту свою резинку как дурачье…
Подростки не собирались взрослеть; им это тоже показалось ужасно смешным, и у них прихватило живот во второй раз, а один закашлялся.
– Ай, будь здоров, приятель… – сказал старик с Подхолмья.
Над ними резко распахнулось окно кухни. Из него раздался пронзительный женский голос:
– Сигмюнд, ты табак покупаешь?
Грузный фермер с Камней обернулся и поднял голову к полуоткрытому окну:
– Нет-нет, меня Ауки сигаретой угостил.
– Да? А он тебе дал две?
Фермер ей не ответил. Они увидели, что Хроульв идет из овчарни через тун.
– Ага, вот и он, голубчик… – сказал Эферт.
– Я спрашиваю: он тебе две дал? – повторил голос в кухонном окне.
Они молча смотрели, как приближается согбенный фермер. Хроульв ненадолго зашел попрощаться с хутором, помочиться в сенник. В Исландии был такой старинный обычай: фермер, уезжающий со своей земли, мочился в сенник. И тогда в ближайшем будущем на этой земле якобы становилось невозможно хозяйствовать: в последующие три тысячи лет