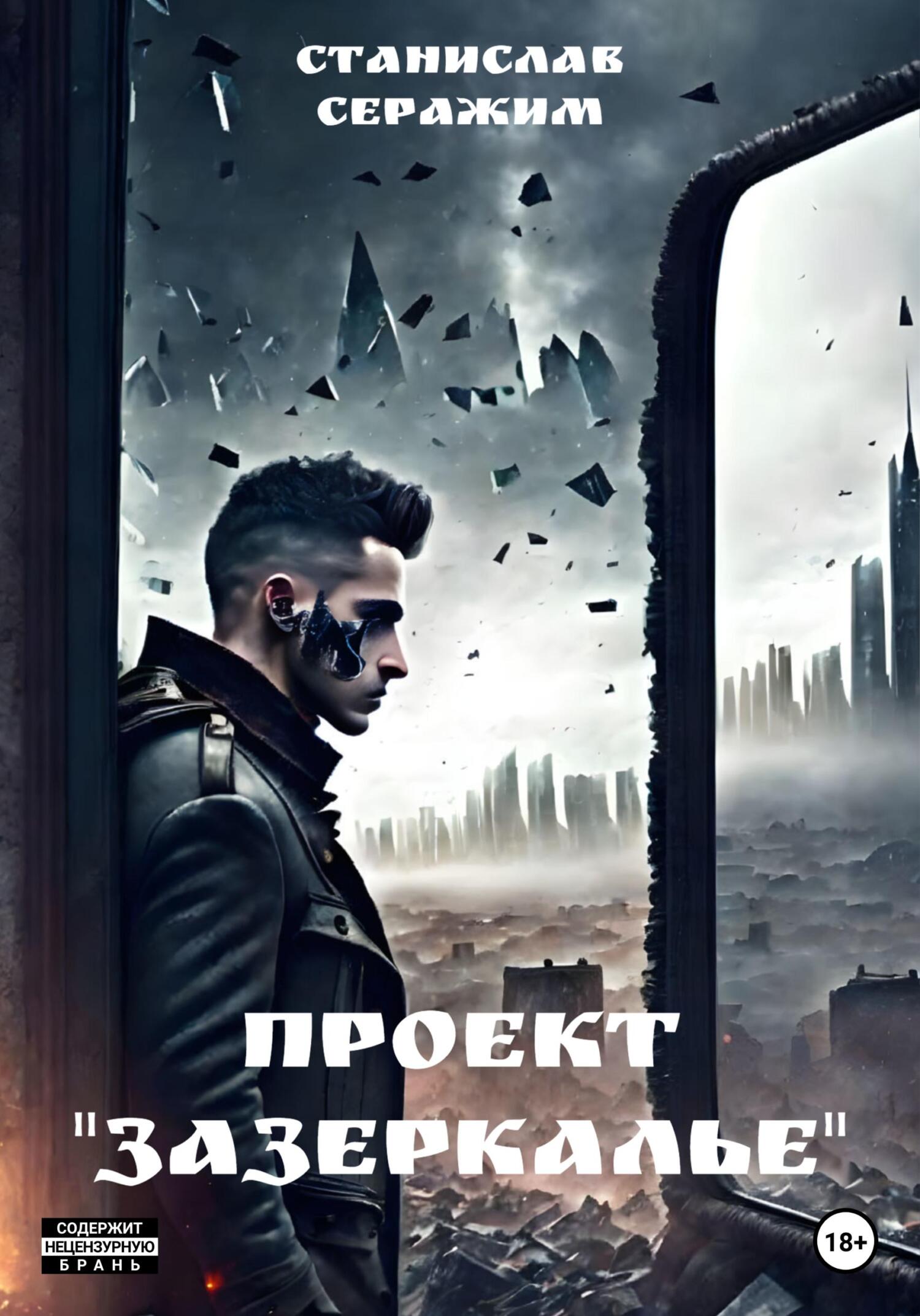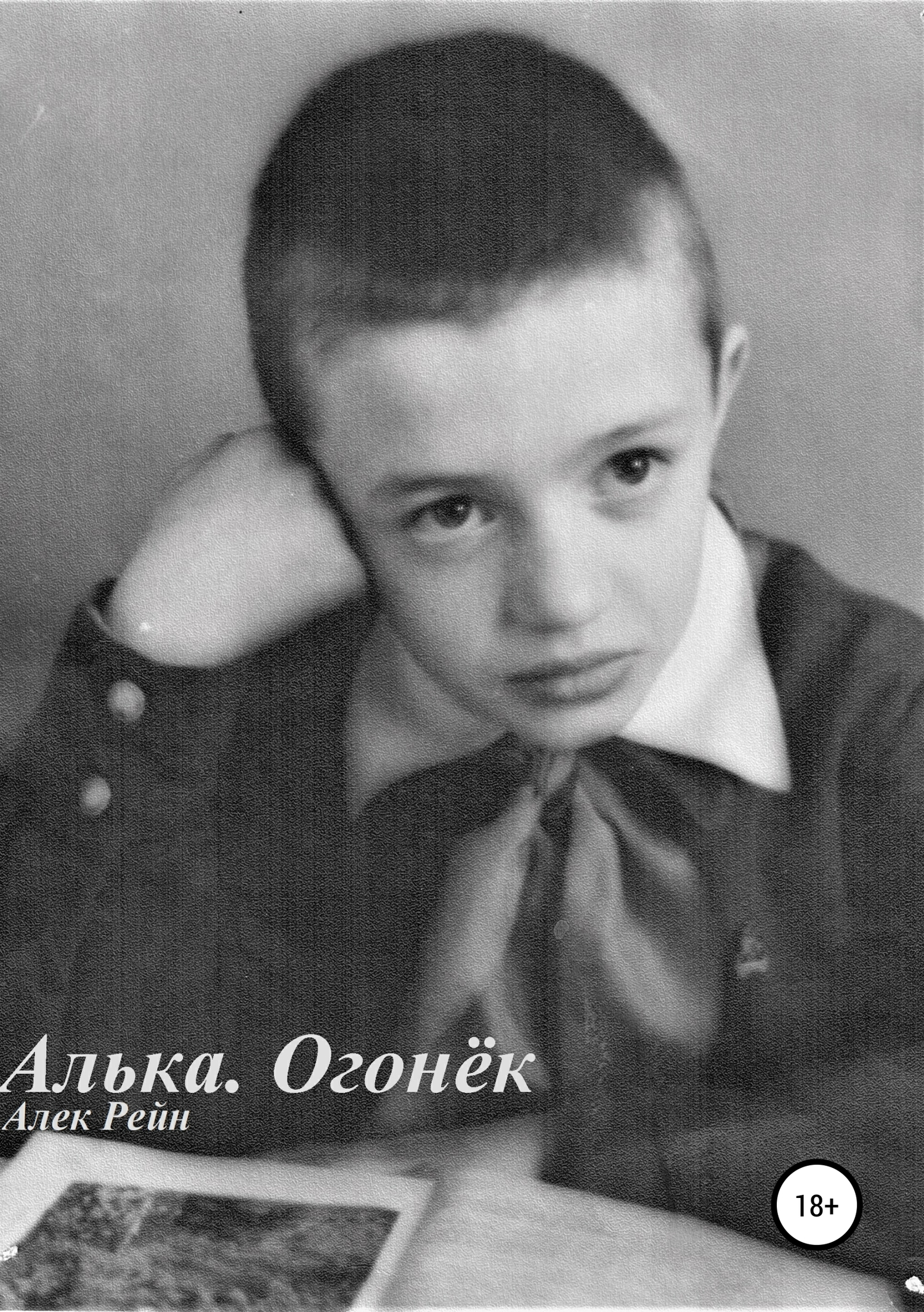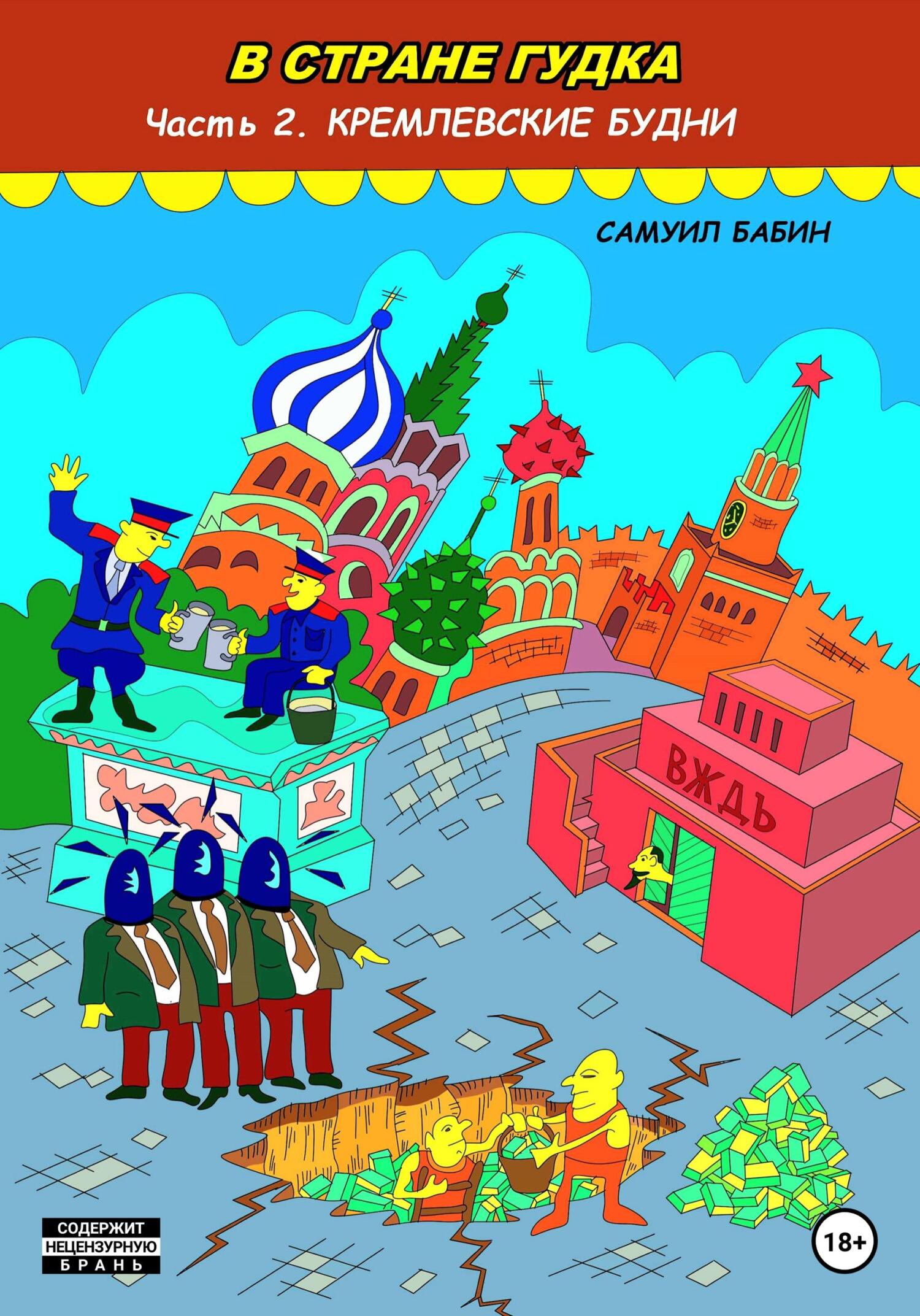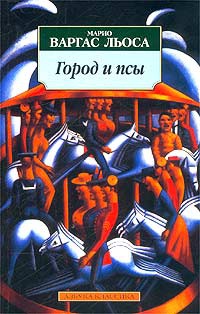нагрудного кармана его спортивной куртки высовывался кончик логарифмической линейки.
— О-о-о! — пропел он. — Товарищ Рославлева! Весна наступает, посевная близится, корреспонденты прилетели, так? Прошу? Здравствуйте.
— Здравствуйте... — кивнула она. — Вы не рады?
— Да ведь... спроста вы не появитесь, так? — рассек он ладонью воздух.
Рославлева усмехнулась и села на указанное кресло возле стола. Никритин, повинуясь жесту, опустился рядом.
Помолчали. Сагатов, видимо по привычке, вытянул из кармана линейку, подвигал рамочку с риской и взглянул выжидающе на Рославлеву.
— Есть кое-что... — сказала она, сдвинув со лба вязаную шапочку с помпоном. — А вообще у нас... вот, с товарищем Никритиным, художником... — Сагатов и Никритин кивнули друг другу. — У нас задание — сделать репортаж о буднях завода, о ваших перспективах в новом году.
— Неудачное время выбрали... — нехотя сказал Сагатов и отвел глаза, в нефтяной темноте которых исчезали зрачки. — Неудачное. Первый квартал. Главк раскачивается, нас лихорадит, так? Неясно с фондами, неясно с кооперированием. Директор в Москве, а меня тут Промбанк жмет. Что хорошего можно написать? Начальник снабжения Кахно просит путевку в сумасшедший дом. Если хотите нам помочь — так? — пишите не о заводе, пишите о третьем механическом. Там мы частично модернизировали станочный парк, там и Бердяев работает... передовик, так? — он повернул голову к Рославлевой и пристукнул ребром ладони по столу.
— А вы стали... осторожным, — глядя ему в глаза, сказала Рославлева.
— На этом кресле чувствуешь себя, как канатоходец без балансира, так? — снова пристукнул рукой Сагатов. — Осторожный... Боюсь, Дмитрий Сергеевич приедет, голову снимет.
— Вот видите!.. — засмеялась Рославлева. — И при всей осторожности на вас жалуются. Интригуете, говорят...
— Кто говорит? — Сагатов вскочил с места и оперся кулаками о стол, весь подавшись к ней.
— Товарищ Чугай...
— Лиса ему товарищ, так?! Очковтиратель! Хитрый ход придумал: газета заступится, спасет. А он сказал, что есть решение парткома не рекомендовать его при выборах в завком? Не говорил, так?
— Ну я понимаю, он человек не легкий. Но что он наделал такого крамольного?
— Ничего не наделал. Ничего, так? Он не умеет делать. Гремящий болтун! Сзывает собрания в рабочее время. Государству — урон, рабочим — убыток... Говорит, после работы никого не удержишь. Правильно, так? Вам хочется после работы, усталой, слушать, как гремит пустая тыква?.. Как держался при Гармашеве, старом директоре, хочет сейчас держаться. Дом не достроили для рабочих? Черт с ним!.. Коллективный договор нарушается? Черт с ним!.. Жми план, давай премии! Вот его стиль... Если у треножника подгнила одна нога, будет держаться треножник? Администрация, партком, завком — это что? Треножник, на котором стоит завод. Гнилую ногу — вон! Так? — Он внезапно улыбнулся, сверкнув металлическим зубом.
Таким и запомнился — темное нахмуренное лицо и белозубая улыбка.
Цех оглушил Никритина. Это в первое мгновенье. Затем разнообразие звуков и вибраций вошло в него, пронизало насквозь. Взгляд задерживала неторопливая, еще непонятная, но, должно быть, осмысленная суета. Он вздрогнул от окрика и посторонился. Проехал мимо электрокар. Девчонка с припухлыми, словно нацелованными, губами насмешливо глянула на него. Она была в берете и тужурке ремесленницы.
Цех...
Железобетонные пилоны. Столбы света, падающие сквозь стеклянные соты крыши. Ряды станков — токарных и фрезерных. Вопль металла. Люди, словно бы задумавшиеся, склонясь над стонущей деталью. Сосредоточенность, углубленность...
Выстреливались кометные хвосты искр. Зеркально взблескивала сталь. Солнце мешалось с электричеством. И однако обилие света утопало в серости стен и станков, рассеивалось в объеме пролетов. Общий колорит для глаза художника представлялся мрачным. Отсюда, может быть, шла и таинственность, и непонятность творимого здесь...
Рославлева придвинулась к нему и прокричала в ухо, повторила задание: цех, Бердяев, какая-нибудь женщина, поскольку близился март. Женщина... Никритин подумал о той девице с припухлыми губами, что проехала на электрокаре. «Ладно! — кивнул он, раскрывая альбом. — Сделаю!»
Рославлева пошла по накатанной полосе цехового пролета и скоро затерялась в общем мельтешенье.
Синело утро. Ветер забирался за поднятый воротник плаща. Стекла окон на верхних этажах лоснились солнцем. Вновь запахло снегом — поздним, мартовским. Если верить синоптикам, вторгся какой-то циклон.
Стучали каблуки на заледеневших тротуарах: люди шли работать. Бежали школьники, размахивая портфелями и шлепая ими друг друга по спине. Прозрачный парок вырывался изо рта...
На крыльце старого одноэтажного дома возилась женщина. Подоткнув подол, она скребла кирпичи, доводя их до бледной желтизны. Белели ее полные икры — напряженные, сильные. Она разогнулась, отвела свисшие на лоб волосы и выплеснула из ведра воду. Перехватив взгляд Никритина, смущенно улыбнулась. Он помахал ей рукой: дескать, валяй! — и прибавил шагу, закурил на ходу. «Шагу, шагу! Не слышу ножки!» — вспомнилась присказка старшины на лагерных сборах». Да, шагу, чтобы не опоздать. В цех, на завод. Бодрость пружинила икры ног.
Странный организм — завод. Там не было места засасывающей бездумности, там люди не знали покоя души, — ни в большом, ни в малом, — и это волновало, наэлектризовывало, заставляло сопереживать. Никритин еще многого не понимал, но чувствовал, что уже отравился лихорадочкой производства. Люди, производящие материальные ценности, может сами не сознавая этого, жили в ином, мажорном, темпе. «Шагу, шагу!..» На трамвайной остановке было людно. Никритин завернул к киоску «Союзпечать» и купил газету. Еще сыроватая, свежая, она пахла типографской краской. Страницы, словно склеенные, разошлись с трудом. А взгляд быстро обежал их, прикидывая, как легли бы среди колонок его рисунки. «И этим заразился!..» — подумал Никритин, вспоминая номер газеты со своими зарисовками. Вот шумный день был на заводе! Особенно в третьем механическом цехе...
Газета... Шелест бумаги в обеденный перерыв... Неожиданность восприятия...
— Опять Бердяев!
— А как же — король! Умеет давить фасон...
— Бросьте придираться, Надюша-то тоже попала!
— Объективность, факт!
А он, Никритин, словно бы и ни при чем! Никто к нему не обратился с вопросами. На самом ли деле не замечали его, или была в том своеобразная деликатность? Так и не понял тогда... Не понял и иронии, с которой говорили о Бердяеве. Подумалось: «Наверное, обычная реакция на популярность, на обособленность того, кто выделился из массы».
Что бы там ни было, к Бердяеву он приглядывался уже серьезно.