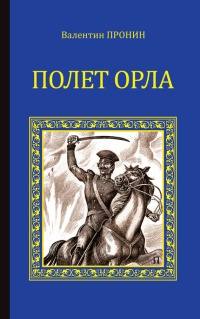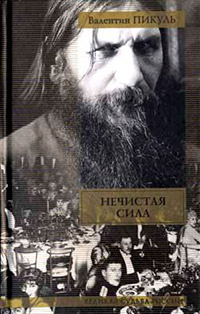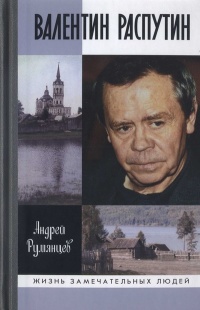«И вот вы входите в эту комнату, называемую пьесой, — ничего удивительного, но отчего так уютно и аккуратно в ней, если даже только что здесь били посуду и трясли друг друга за грудки? Отчего не хочется уходить из семьи Сарафанова, отчего чулимская чайная, где разбиты, можно сказать, все сердца, каким-то чудом приносит утешение, почему жаль расставаться и с Зиловым, все сделавшим для того, чтобы от него в страхе бежать? Почему? Где то потайное, волшебное окно, в которое наносит облегчающий свет?
Да, конечно, в этой комнате рядом с другими, составляющими окружение, живут или Валентина, или Ирина, приехавшая из тех же заповедных мест, где находится Чулимск, или Сарафанов, или агроном Хомутов, добрейшие души, и тоже незатейливые, наивные, бесхитростные, по малому числу своему словно бы отставшие от какого-то другого мира, который не состоялся, заблудившиеся среди нас… Но нет — они-то и есть центр всего происходящего, они-то и есть хозяева комнаты. Напрасно Зилов кричит об Ирине, уязвленный, пожалуй, даже испуганный твердой ее чистотой, нарушающей новый нравственный порядок жизни: “Она такая же дрянь, как и другие”. Те люди, которых мы за редкую самосбереженность готовы принимать за юродивых, составляются особыми частицами, подобно тому, как в природе рождаются драгоценные минералы. В теперешней литературе принято насмехаться над ними, брать в герои только для того, чтобы показать полную их несостоятельность, но для Вампилова они — удерживающее начало жизни, и он пишет их, любуясь, радуясь им, относясь к ним с нежностью и необыкновенным почитанием. Чтобы дать героям такой свет, нужно и самому быть освещенным…
“Зачем ты пишешь их? — можно было бы с таким же недоумением спросить у Вампилова. — Жизнь жестока, и люди не хотят жить по заповеданным им человеческим законам. Их сломают, твои прекраснодушные создания. Посмотри, что делается вокруг”. — “А я все равно буду писать их”, — подобно Валентине, отвечает Вампилов.
По его признанию, сделанному в свое время автору этих строк, несколько дней он чувствовал себя скверно, когда в первой редакции пьесы намеревался привести Валентину к самоубийству после совершенного над нею насилия. Скверно потому, что позволил себе усомниться в своей героине, поверить, что да, сломали. А она отказалась от такого конца, решительно отказалась и еще до того, как автор в раздумье подвинул к себе последнюю страницу, пошла восстанавливать палисадник. Он же испытал стыд, мучительный и счастливый, будто это живая душа, дочь родная, по заложенному в нее им же зерну преподала ему урок мудрости.
Отказался стреляться и Зилов, уже по другим мотивам. В этом случае переговоры с автором, надо полагать, были сложнее. По законам театра предъявленное зрителю ружье должно было выстрелить, а душу свою герой увязил в грязи. У Зилова мог быть только один серьезный довод: “Ты не написал меня отпетым, никчемным и пропащим человеком, о котором, как об отце братьев Карамазовых, напрашивается вопрос: ‘Зачем живет такой человек?’ Ты дал мне ум, совсем не злой, дал способности и обаяние, позволь мне положиться на них”. Оставить героя без милости, взять и убрать его во имя того, чтобы зритель вздрогнул, Вампилов не решился: что ни говорите, а законы жизни важнее законов искусства. По законам искусства справедливо было бы и то и другое — и жить Зилову и не жить, в такое “пиковое” он поставил себя положение, но, пользуясь верховным своим правом, автор позволил ему сделать более подходящий для морали выбор.
Критики, принимающие Зилова за положительного героя, думаю, меряют его на свой аршин, а аршин этот скроен с заведомой поправкой на покосившуюся действительность. Если поместить Зилова в сегодняшний мир, переполненный масштабными негодяями, рядом с ними он в самом деле сойдет за приличную личность. Потому Зилов и непредставим в нынешнем шнырянье одних за куском хлеба, других за куском золота. У него есть гордость. Но у него не осталось в сердце ни любви, ни святыни, а это по старым меркам ценилось не слишком дорого. Нерядовая личность, спустившая себя по мелочи, по пустякам. Ссылки на атмосферу, в которой жил Зилов и которая калечила человека, мало серьезны: назовите в современном мире атмосферу, где бы не калечился слабый человек. Валентину не покалечила, Сарафанова тоже. Это говорится не в оправдание старой атмосферы, она, разумеется, могла быть лучше, а во имя беспристрастного удостоверения личности нашего героя, вызывающего споры.
Особенности души и таланта Александра Вампилова в том, что ни над одним из своих персонажей он не произносит последнего приговора… Все они, вольные или невольные слуги греха, выставляются не для суда, а для того лишь, кажется, чтобы вызвать к себе и своей нелепой роли снисхождение. В. Розанов говорил: “Никакой человек не достоин уважения, всякий человек достоин только любви и прощения”.
Смейтесь над этими людьми, возмущайтесь ими, страдайте от их множества, но не отвергайте их, ибо это не сделает лучше ни вас, ни их, — таков, кажется, главный мотив всех пьес Вампилова. Помогите сочувствием неразумному, заблудившемуся, запутавшемуся, всего лишь сочувствием — для духовной атмосферы жизни это так много и так нужно. Помогите — и воздастся вам…»
Есть ли здесь намек на какую-то «загадку» драматурга и на то, что он «не понят», «до сих пор не понят»? В размышлениях трех авторов дана — не разгадка, а собственное понимание вампиловского наследия. «Ставьте его на сцене как русскую классику», — советует один. «У его героев те же духовные провалы и обретения, что и у персонажей Шекспира, Мольера, Сервантеса», — говорит другой. «Ссылки на общественное устройство, которое будто бы одно только и калечит людей, не совсем правомерны. В мире всюду найдутся люди, нравственно покалеченные и здоровые. Зилов искалечил себя, Валентина и Сарафанов — нет. Свет в душе — вот что хранит человека в святости и любви. Как и все творцы высокой литературы, Вампилов страстно зовет нас беречь этот свет», — утверждает третий. После такой переклички, услышанной нами, собьют ли кого-то умствования толкователей, заблудившихся в трех соснах?
В подтверждение того, что пьесы Вампилова естественно «вписываются» в мировую драматургию, говорит одна из статей, опубликованных в журнале «Театр» летом 1972 года. Она названа символически «Вариации на тему Дон Кихота». Можно предположить, что эту публикацию прочитал Александр Валентинович: ведь он сам печатался в журнале «Театр» и считал его своим. Автор статьи Б. Емельянов рассказывает о том, что известный в Казахстане мастер сцены, народный артист этой республики Ю. Померанцев, сыграл на сцене алма-атинского Русского театра драмы главные роли в трех спектаклях, близких друг другу, как выразился рецензент, «возвышенной темой», нравственным обликом героев. Среди постановок — спектакли по роману Сервантеса «Дон Кихот» и пьесе Вампилова «Свидание в предместье» («Старший сын»).
Автор считает, что, выстроив в программе одного сезона спектакли такого нравственного звучания, театр не допустил никакой натяжки. Комедия талантливого современного автора звучит с той же покоряющей силой, что и перенесенный на сцену всемирно известный роман:
«Мы ощущаем в Сарафанове (Ю. Померанцеве), столь незащищенном, некую твердь. Вначале он стыдится своего общественного положения. Но наступает момент, когда он оказывается независимым от всякой внешней оценки, кроме собственной. Это не жалкое высокомерие, а простое человеческое достоинство…