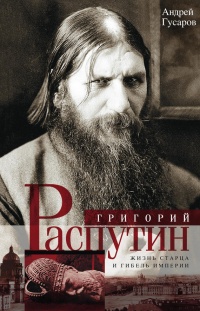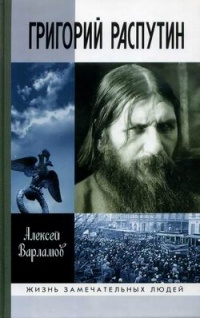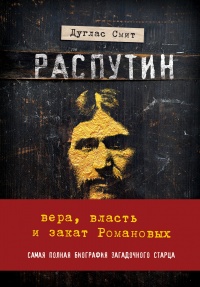С больной головы на здоровую?
Немалому числу авторов всякого рода поклёпов в начале девяностых годов не стоило бы удивляться. Это было их время — и в политике, и в общественной жизни, и в литературе. Но больно было видеть, что новоявленным «трибунам демократии» подставили плечо и некоторые достойные уважения художники. Среди этих «примкнувших» оказался и Виктор Петрович Астафьев. Он поставил свою подпись под обращением, авторы которого призывали правительство расправиться с парламентом и всеми недовольными курсом Ельцина. Это обращение (названное по количеству подписантов «Письмом 42-х») было опубликовано 5 октября 1993 года в «Известиях» под заголовком «Писатели требуют от правительства решительных действий», когда эти «решительные действия», собственно, уже сотрясали Москву — 4 октября начался обстрел Белого дома, где заседали парламентарии…
В письмах тех лет, ныне опубликованных, Виктор Петрович не стеснялся говорить такое:
«Народ становится всё хуже и подлей, особенно наш, полусельский-полугородской — межедомок имя ему». «Совсем народишко наш шпаной и оглоедом становится. Горлохват и вор — главное действующее лицо у нас». «Народа уже нет, а есть сообщество полудиких людей, щипачей, лжецов, богоотступников… продавших землю и волю свою…» «Носом, как котят слепых, тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слёзы — иначе ничего от нашего брата не добьёшься…»
А уж о прежних, советских, властителях уважаемый писатель не находил никаких иных определений, кроме как «фашисты-коммунисты», «большевистские выкормыши», «главные преступники всечеловеческой, а не только нашей истории» и т. д. и т. п. Но почему-то Виктор Петрович с особым пиететом принимал у себя в Овсянке выкормыша «фашистов-коммунистов», вчерашнего члена ЦК компартии, устроившего государственный переворот, а позже расстрелявшего здание парламента с сотнями находившихся в нём людей. Почему-то он ни разу не возмутился шкурными повадками той своры, которая окружила трон президента. И почему-то в те годы, которые стоили стране многомиллионной убыли населения, писатель не произнёс ни одного слова возмущения.
Внимательный читатель мог удивиться и метаморфозе, случившейся с прозаиком за каких-то двенадцать — пятнадцать лет. Как мы помним, в предисловии к распутинской повести «Живи и помни» Виктор Астафьев писал в 1978 году: «…в беде, в кручине, в самые тяжкие дни и испытания место твоё с твоим народом, всякое отступничество… оборачивается ещё большим горем для твоей Родины и народа, а стало быть, и для тебя».
Возникает невольный вопрос: как же эти давние представления о родном народе связать с поздними злыми суждениями? С одной стороны: «в беде, в кручине место твоё с твоим народом». А с другой стороны: если твой народ — это «сообщество полудиких людей, щипачей, лжецов, богоотступников, продавших землю и волю свою», если он — «межедомок, шпана и оглоед, горлохват и вор», то может ли быть «твоё место с твоим народом»?
Какую злую шутку сыграла с Виктором Петровичем «смена вех»!
Удивительно ли, что писатели младшего поколения в годы ельцинизма охладели к Астафьеву: слишком уж резко бросалось в глаза его стремление переложить всю вину за беды страны с больной головы на здоровую. Не мог согласиться с выпадами Виктора Петровича и Распутин. Словно споря с ним, Валентин Григорьевич писал в 1999 году в статье «Сколько же мы будем ещё запрягать»:
«У нас не только нет цельной науки о нашем народе, но и взгляды на него настолько разные и порой противоречивые, будто мы свалились с луны, а не вышли из его недр. Загадочная русская душа до сих пор представляет тайну не для одних лишь иностранцев, усаживающих её под развесистую клюкву, но и для нас, судящих о ней с пространной приблизительностью. Вот уже два века, начиная с Радищева и Чаадаева и заканчивая нашими современниками как из левого, так и из правого лагерей, русский человек никак в себя не укладывается. Разноречивые суждения о нём всем нам хорошо знакомы. Для одних он существо безвольное, склоняющее свою выю под любое ярмо, нетрезвое, недалёкое и т. д. И не объясняется этими первыми, как такое пьяное и „растительное“, малоподвижное во всех отношениях существо построило империю в шестую часть суши, прошло победными парадами в Варшаве и Вене, Париже и Берлине, создало могучую индустрию и могучую науку и первым полетело в космос. Вторые обращают внимание как раз на это, на могучую деятельность русского человека, и обходят молчанием периоды его затишья, вялости и анархии. Третьи, чтобы как-то согласовать те и другие начала, предлагают теорию затухания наций, по которой выходит, что русские сейчас и находятся в периоде такого угасания. Да, были, мол, времена великих подвигов и побед, но тысячелетний срок, отпускаемый историей для активной жизни наций, миновал, наступила пора органической старости».