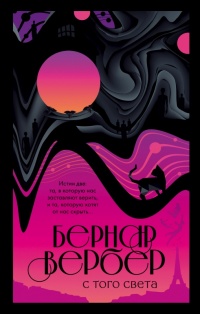Нет, нет, ни за что, у меня французская грудь. Я не стану кормить сына немца, —
приложив руку к груди, отвечала дрожащим голосом бородатая эльзаска. Ирония, пародия занимали первое место в программах Капри; насмехаясь над старшими поколениями, мы испытывали изысканное удовольствие коллективного нарциссизма: мы ощущали себя ясными духом, умудренными, критичными и умными. Когда годом позже я поняла свою слепоту, свое невежество, я возненавидела все эти остроты.
Мы не совсем оставили «Дом», завсегдатаи которого были более потрепанные жизнью и более непредсказуемые, чем в кафе «Флора». Как-то вечером огромный Домингес, с которым мы познакомились уж не помню через кого, пригласил нас, меня и Ольгу, к себе в мастерскую; там были Рома, греко-румынка, с которой он тогда жил, художник Флорес и с дюжину других персон. В первый и единственный раз в своей жизни я играла в ту игру правды, от которой были без ума сюрреалисты. Почти все вопросы были сексуального или даже непристойного характера. Рому спросили, почему она любит спать с Домингесом: широким и полным очарования жестом она нарисовала в воздухе гигантское тело. «Потому что его столько!» — сказала она. Но в целом ответы, как и вопросы, были и пошлыми, и грубыми. Мы старались соответствовать, но ценой огромных усилий. Постепенно атмосфера стала, как сказали бы в «Канар аншене», на редкость оживленной: некоторые игроки, казалось, готовы были от слов перейти к действиям. Мы сбежали.
По сравнению с «Набережной туманов» новые французские фильмы не представляли интереса. И все-таки Мулуджи был очарователен в «Аду ангелов». Американские фильмы стали скучными; теперь они больше рассказывали не о гангстерах, а о полицейских. В «Ангелах с грязными лицами» Джеймс Кэгни соглашался умереть подлецом, дабы отвратить от преступления банду мальчишек. Комедии «Мистер Смит едет в Вашингтон» и «С собой не унесешь», хорошо сделанные и хорошо сыгранные, были забавными; однако они претендовали на продвижение некой идеи: капитализм должен быть гуманистическим.
В «Комеди Франсез» появились хорошие спектакли с тех пор, как Жан Зей пригласил руководителей «Картеля» делать там постановки. Пятнадцать лет назад в «Ателье» я видела пьесу Пиранделло «Каждый по-своему»; я снова посмотрела спектакль в более широкой трактовке, который Дюллен показал на сцене Французского театра[87]; когда облаченные в траур Леду и Берта Бови возникали в глубине длинного коридора, который с помощью эффекта перспективы казался огромным, они повергали в тревожное изумление и своих персонажей, и публику. Постановкой «Женитьбы Фигаро» Дюллен вызвал яростную полемику. Малыш Клодио, игравший роль Керубино, выглядел не старше двенадцати лет: его сочли слишком уж молодым. Дюллену ставили в упрек и то, что он не подчеркнул еще больше социальную и политическую стороны пьесы; на мой взгляд, он ничуть не умалил ее язвительности, трактуя пьесу с легкостью. Я присутствовала на генеральной репетиции пьесы «Земля кругла» Салакру, которая показалась мне, справедливо или нет, крупным светским событием. Я сочла великолепной Люсьенну Салакру в ее длинном шелковом платье и с высокой прической, украшенной дорогим гребнем. А до чего хороша была Сильвия Батай собственной персоной в шапочке из ярко-красных перьев! У меня не было ни малейшего желания стать частью всего Парижа и щеголять в праздничных нарядах, однако интересно было посмотреть вблизи на знаменитостей и красивые туалеты.
Дюллен отдал сцену «Ателье» Барро, чтобы он показал там «Голод», в этом спектакле Ольга играла несколько маленьких ролей. Вечер начинался «Гамлетом» в обработке Лафорга, поставленным Гранвалем, и Барро всесторонне демонстрировал себя зрителям. В «Голоде» он впервые пытался довести до конца свою концепцию «тотального театра». От романа Кнута Гамсуна он оставил лишь общую идею: безнадежное одиночество изголодавшегося человека в сердце большого города; к этой теме он присовокупил другую, которой очень дорожил: человек и его двойник. Герой, которого играл Барро, имел «внутреннего брата», которому свое смущающее лицо предоставил Роже Блен. Слово в этом спектакле имело лишь второстепенное значение, зачастую оно замещалось с помощью фатрази; таким способом, пока еще новым, Барро достигал превосходных эффектов; однако предпочтение он отдавал языку пантомимы. Ученик Декруа, посвятившего свою жизнь возрождению пантомимы, он не считал, что это искусство самодостаточно: ему хотелось использовать его возможности для драматического развития. Он не устоял перед соблазном ввести в спектакль «Голод» несколько ярких пассажей: например, стоя на месте, он поднимался по воображаемой лестнице; это упражнение выпадало из общего ансамбля и нарушало его ритм; мне гораздо больше понравились моменты, когда жесты становились настоящим способом театрального выражения. Замечательным успехом по своей смелости без малейшей пошлости явилась немая сцена, когда герой от крайней слабости не сумел овладеть женщиной, которую желал. Пьеса имела успех, ее показывали больше пятидесяти раз. После «Нумансии» и «Когда я умирала» «Голод» позволял предположить, что Барро принесет в театр обновление, в котором ощущалась необходимость.