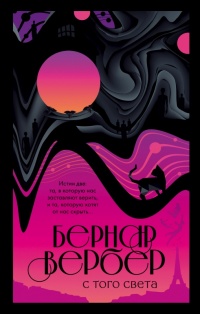«Картель» дал то, что мог дать: он ничего более не изобретал. В то время, когда кино склонялось к реализму, хотелось увидеть появление на сцене неведомый доселе способ транспозиции: соотношение актера и текста, текста и спектакля, спектакля и публики, все требовалось создавать заново. Возможно, Барро в этом преуспеет?
На рождественские каникулы мы вернулись в Межев; мы начали выходить из положения, как могли, и нас это удовлетворяло, мы не были амбициозны. На Пасху мы съездили в Прованс; я оставляла Сартра в городах и деревнях, куда мы добирались на поезде и в автобусе, а сама гуляла по склонам Люберона, в еще покрытых снегом горах в окрестностях Диня. В Маноске, во всех киосках и книжных магазинах были выставлены романы Жионо; он стал проповедовать возвращение к земле, и когда я с рюкзаком на спине шла по дорожке в окрестностях Контадура, крестьяне спрашивали меня, не из колонии ли я. С начала года Сартр читал Хайдеггера в переводе Корбена и по-немецки. Впервые он сказал мне об этом серьезно в Систероне, я как сейчас вижу ту каменную скамью, на которой мы сидели; Сартр объяснял мне, что означает определение человека как «бытия далей» и каким образом «мир освобождается у горизонта от неисправных инструментов»; но я с трудом понимала, какое место отводит Хайдеггер будущему. Сартр, который всегда стремился спасти прежде всего реальность мира, ценил в философии Хайдеггера способ примирить объективное и субъективное; он не считал его очень точным, но возможности открывались большие.
Каждый раз, как мне выпадало несколько свободных дней, я уезжала из Парижа. На Троицу я гуляла по Морвану: я видела Дижон, Осер, Везле. В июне на неделю экзаменов я уехала на Юру. Я облазила все горные выступы и так устала, что мое колено распухло и передвижение стало пыткой. Я села в поезд до Женевы, где ходила, прихрамывая. Испанское правительство переправило туда коллекции из Прадо, чтобы спасти их от бомбардировок, и целый день я провела среди картин Гойи, Эль Греко, Веласкеса. Сердце у меня сжималось, теперь я знала, что долго не смогу вернуться в Испанию.
Весь год я снова пыталась укрыться в настоящем, воспользоваться каждым мгновением. И все-таки мне не удавалось забыть окружающий мир. Надежды июня 1936 года окончательно умерли. Рабочий класс не сумел противостоять законам и постановлениям, отнимавшим у него большую часть его завоеваний: в ответ на забастовку 30 ноября объединение предпринимателей с успехом ответило массовым локаутом. У меня не хватало воображения, чтобы переживать по поводу пожара в Кантоне или падения Ханькоу, но поражение испанских республиканцев мы воспринимали как личное несчастье. Их внутренние разногласия, проходивший в Барселоне процесс ПОУМ[88] наполняли наши сердца смятением. Правда ли, что сталинисты погубили революцию? Или следует верить, что анархисты сыграли на руку мятежникам? Последние торжествовали. Барселона агонизировала. Приехавший на побывку Фернан описывал бомбардировки, голод; еды нет, лишь иногда горстка турецкого гороха; нет табака, чтобы заглушить голод: нельзя было даже найти окурка на улице, чтобы подобрать и использовать его. Бедные детишки со вздувшимися животами были крайне истощены. В январе город, опустошенный бомбами с жидким воздухом, пал. Все большее число оборванных, растерянных беженцев стекалось к границе. Мадрид еще сопротивлялся, но Англия уже признавала Франко; Франция направила Петена послом в Бургос. После нескольких потрясений пал Мадрид. Все левые французские силы, ощущая свою вину, были в трауре.
Блюм признавал, что в августе 1936 года быстрые поставки оружия спасли бы Республику и что невмешательство оказалось близорукой политикой: почему общественное мнение не сумело заставить его выбрать другую? Я начинала понимать, что моя политическая пассивность вовсе не служит гарантией моей невиновности, и теперь, когда Фернан ворчал: «Подлые французы», я чувствовала, что это касается и меня тоже.
Но в таком случае перед лицом зарейнских трагедий могла ли я все еще выбирать пассивность? Нацисты устроили террор в Богемии, в Австрии. Пресса сообщила нам о существовании лагеря Дахау, где находились в заключении тысячи евреев и антифашистов. Бьянку Бьененфельд посетил один из ее кузенов, которому удалось бежать из Вены после того, как он провел ночь в застенках гестапо: его избивали часами, его лицо все еще было покрыто синяками, со следами ожогов от сигарет. Он рассказывал, что в ночь после смерти фон Рата в городке, где жили его родственники, подняли с постели всех евреев, собрали их на главной площади, заставили раздеться и калечили раскаленным железом. Повсюду в рейхе покушения служили предлогом для страшных погромов: сожжены были последние синагоги, еврейские магазины разгромлены, тысячи израильтян интернированы. «Можно ли работать, можно ли веселиться, можно ли жить, когда происходят подобные вещи?» — со слезами говорила мне Бьянка. И мне было стыдно за мой эгоизм, ведь я упорно стремилась к счастью.
Мне было стыдно, но я пока еще не отступалась, я все еще хотела верить, что войны не будет. В свою очередь, Италия потребовала «жизненного пространства»; она расторгла свой договор с Францией, вызвала волнения в Тунисе, угрожала Джибути. В тот день, когда итальянские войска вместе с солдатами Франко вошли в Барселону, римская толпа устраивала шумные демонстрации, она праздновала победу диктаторов с криками: «Тунис наш! Корсика наша!» Я же убаюкивала себя последним пацифистским лозунгом: «Не станем же мы сражаться за Джибути!»
И казалось, действительно, сражаться не будут. Гитлер довольно вяло поддерживал Муссолини; Рузвельт обещал, что в случае нападения он придет на помощь демократическим силам. Однако Словакия оказалась под властью рейха; 16 марта Гитлер вошел в Прагу. В Англии правительство учредило рекрутский набор; во Франции Даладье получил свободу действий, начали раздавать противогазы, законом о сорокачасовой неделе пожертвовали в интересах национальной обороны. С каждым днем мир отступал все дальше. Муссолини напал на Албанию, Гитлер угрожал Мемелю и требовал Данциг; Англия, высказавшись за политику твердости, подписала с Польшей договор о взаимопомощи.
Быть может, заключение англо-франко-русского соглашения испугает Гитлера? Но переговоры с СССР не давали результатов. Скоро не останется иной альтернативы, кроме войны или новой уловки. Деа опубликовал в «Эвр» статью, наделавшую много шума: «Зачем умирать за Данциг?»; он призывал французов, от радикалов до коммунистов, к сдаче всех позиций, левые почти единодушно были возмущены этим лозунгом.
В этой связи мне вспоминается спор между Колетт Одри и Сартром; ее до того потрясли испанские бедствия, что в политике она уже ни во что не верила. «Все, что угодно, только бы не война», — твердила она. «Нет, все кроме фашизма», — отвечал он. Воинственным духом Сартр не отличался; в тот момент, 30 сентября, он был совсем не против вернуться к своей гражданской жизни; тем не менее Мюнхен он считал ошибкой и полагал, что новое отступление было бы преступным; соглашаясь на уступки, мы становились соучастниками всех гонений и истреблений: эта мысль мне тоже была отвратительна. Спасаясь от концентрационных лагерей, от пыток, десятки тысяч евреев скитались по миру: история «Сент-Луиса» разъяснила нам их ситуацию. Девятьсот восемнадцать израильтян сели в Гамбурге на пароход, идущий на Кубу; кубинское правительство не приняло их, и капитан взял курс на Германию. Все вместе они дали клятву скорее умереть, чем вернуться в Гамбург. Они блуждали не одну неделю; наконец Голландия, Англия, Франция согласились предоставить им убежище. Множество других судов перевозили таким образом злосчастный груз, который ни одна страна не желала принимать. Пришло время покончить с подобными зверствами, которые наш эгоизм слишком долго терпел.