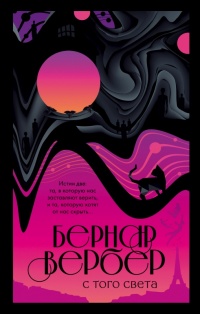В Пасси было целое поселение русских белоэмигрантов, и в том году лучшей моей ученицей была русская. Семнадцать лет, светловолосая, со старившим ее пробором посередине, грубые башмаки, чересчур длинные юбки — Лиза Обланофф сразу привлекла меня своей агрессивностью. Она резко прерывала меня: «Я не понимаю!» Иногда она так долго отвергала мои объяснения, что я была вынуждена не обращать на это внимания; тогда она, подчеркнуто скрестив руки, испепеляла меня взглядом. Как-то утром я встретила ее в метро на станции «Трокадеро», где я делала пересадку; она подошла ко мне, широко улыбаясь: «Я хотела сказать вам, мадемуазель, что в целом я нахожу ваши уроки очень интересными». Мы проговорила до дверей лицея. Несколько раз по утрам я снова встречала ее на платформе и поняла, что это было не случайно: она меня подстерегала; она пользовалась нашим разговором с глазу на глаз, чтобы добиться ответов, которых я не давала ей в классе. В следующем году ей хотелось бы продолжить свои занятия по философии, но родители не получили французского гражданства, а без гражданства она лишалась прав на обучение, к тому же отец хотел, чтобы она стала инженером-химиком. Она несколько лет посещала лицей Мольера, но нашла там лишь одну подругу, тоже русскую, которая покинула лицей тремя годами раньше, чтобы зарабатывать на жизнь. Других своих подруг она считала скучными и глупыми; обо всех она судила с крайней строгостью и не ощущала себя солидарной с этим обществом, на которое смотрела издалека с насмешливой отстраненностью. Именно эта отдаленность делала ее столь требовательной интеллектуально: она целиком отказывала в доверии этой чужой цивилизации и принимала лишь истины, доказанные в свете универсального разума. Своему положению изгнанницы она была обязана также и причудливым, а нередко странным видением вещей и людей.
Свое свободное время я проводила не совсем так, как в предыдущие годы. Я забросила Монпарнас. Ольга снова ходила на занятия в «Ателье», она вернулась туда тайком; потом, чтобы подавать реплики одной подружке, выучила роль Оливии в «Двенадцатой ночи» Шекспира; когда они проходили прослушивание, ею заинтересовался Дюллен и очень ее хвалил. И тотчас весь класс захотел подружиться с ней, но что еще важнее, она почувствовала уверенность и теперь приходила на занятия регулярно, отныне не было усерднее ученика, чем она. Она совершенствовала свою дикцию, старательно повторяя «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет». Она делала упражнения на импровизацию с разными преподавателями, работала над пантомимой с Жан-Луи Барро. Дюллен ценил ее и показал Барро; он нередко говорил мне о ней с явным уважением. Она поселилась в отеле на площади Данкур, и я часто встречалась с ней за ужином в маленьком ресторане рядом с театром, который посещали актеры труппы и ученики школы. О тех и о других она рассказывала мне множество историй.
Прекрасная Мадлен Робинсон в театре и в кино сыграла не одну роль, но продолжала учиться ремеслу; она жила неистово и беспорядочно, бросая деньги на ветер, одеваясь прелестно, но всегда несколько небрежно: она презирала благопристойность, осторожность, видимость, и Ольга ее за это уважала. Среди дебютанток Дюллен предсказывал самое прекрасное будущее Берте Тиссан, маленькой некрасивой уроженке Люксембурга, но зато наделенной необычайным темпераментом; в роли Марии в спектакле «Благовещение» она заставила плакать своих товарищей. Многого ожидали и от смуглой девушки с длинными косами и выразительным лицом, которая взяла себе псевдоним Андре Клеман; она была очень близка с забавным парнем, весьма талантливым, по имени Дюфило. Я познакомилась с Сесилией Бертен, которая, предназначая себя театру, готовилась вместе с тем к сдаче экзамена по философии. С блестящими глазами, выступающими скулами, темной кожей, она рядилась в шали ярких расцветок, делавших ее похожей на цыганку: у нее был шарм, но ей не хватало естественности. Ольга довольно тесно сдружилась с одной югославкой с черными, как вороново крыло, волосами, которую я часто встречала на Монпарнасе, ее тоже звали Ольга. Но из всех девушек и юношей школы ее любимцем был Мулуджи, который уже прославился в двух или трех фильмах; в шестнадцать лет ему удалось избежать неуклюжести отрочества, он сохранил серьезность и свежесть детства. Принятый Жаком Превером и его группой, в частности Марселем Дюамелем, общаясь с ними, он приобрел на удивление разноплановую культуру; поразительно, сколько разных вещей он знал и не знал. Хорошо знакомый с давних пор с сюрреалистической поэзией и американскими романами, теперь он открывал Александра Дюма и восторгался им.
Его происхождение, его успех ставили его вне общества, которое он судил с юношеской непримиримостью и пролетарской суровостью. «У рабочих так не делается», — нередко говорил он осуждающим тоном. Буржуазия и богема казались ему одинаково порочными. Замкнутый до дикости и безудержно душевный, с плеча решая, что зло, а что добро, и вместе с тем растерянный до замешательства, чувствительный, открытый, с внезапными пристрастиями, крайне доброжелательный, но обидчивый, а при случае и вероломный, он казался обворжительным маленьким чудовищем. Он ладил с Ольгой, ведь и в ней сохранилось что-то от детства.
Нередко Ольга спускалась с Монмартра в Сен-Жермен-де-Пре. Думаю, это она в первый раз привела меня в кафе «Флора», где у меня вошло в привычку проводить вечера с ней и с Сартром. Кафе стало местом встречи людей кино: режиссеров, актеров, ассистенток режиссера, монтажниц. Там мы сталкивались с Жаком и Пьером Преверами, Гремийоном, Ораншом, сценаристом Шаванном, членами бывшей группы «Октябрь»: Сильвеном Иткиным, Роже Бленом, Фабьеном Лорисом, Бюссьером, Баке, Ивом Деньо, Марселем Дюамелем. Там можно было увидеть и очень красивых девушек. Самой яркой была Соня Моссе, чье лицо и великолепное тело — хотя и немного пышное для ее двадцати лет — вдохновляли скульпторов и художников, среди прочих Дерена; она поднимала на затылок искусно скрученные жгутом изумительные светлые волосы; меня восхищала выдержанная оригинальность ее украшений и туалетов: в числе прочего я восторгалась одним платьем строгого покроя из старого и очень дорогого кашемира. Обычно ее сопровождала приятная брюнетка с коротко стриженными волосами и мальчишескими повадками. Иногда, с ракушками в ушах, с ощетинившимися колючками глазами появлялась Жаклин Бретон, размахивая в перезвоне браслетов руками с вызывающими ногтями. Но самым распространенным женским типом были, как мы их называли, «потрясные»: создания с бесцветными волосами, источенные наркотиками, алкоголем или жизнью, с унылыми ртами и бесконечно вытянутыми глазами.
У «Флоры» были свои нравы, своя идеология; небольшая группа завсегдатаев, встречавшихся там ежедневно, не относилась полностью ни к богеме, ни к буржуазии; большинство из них неведомо каким образом имели отношение к миру кино и театра; они жили на неопределенные доходы, уловками и надеждами. Их богом, их оракулом, их властителем дум был Жак Превер, чьи фильмы и стихи они почитали, чей язык и склад ума пытались копировать.
Нам тоже нравились стихи и песни Превера: его мечтательный и слегка несуразный анархизм полностью подходил нам. Нас очаровали фильмы — сначала «Дело в шляпе», а потом «Забавная драма», поставленная Карне с Барро, Жуве, Франсуазой Розе. Особенно нам понравилась «Набережная туманов», где восхитительно играли Габен, Брассёр, Мишель Симон и чудесная незнакомка, которую звали Мишель Морган. Диалог Превера, кадры Карне, туманное отчаяние, пронизывающее фильм, взволновали нас: тут мы соглашались со своей эпохой, увидевшей в «Набережной туманов» шедевр французского кино. Между тем молодые бездельники «Флоры» вызывали у нас симпатию с оттенком раздражения; их антиконформизм служил им главным образом для оправдания собственной бездеятельности; они отчаянно скучали. Основным их развлечением были «потрясные»: у каждого с каждой поочередно бывала связь разной продолжительности, но обычно короткая; когда круг замыкался, все начиналось сначала, что приводило к однообразию. Свои дни они проводили, изливая отвращение в коротеньких скептических фразах, перемежающихся зевками. Они, не переставая, оплакивали человеческую дурость.