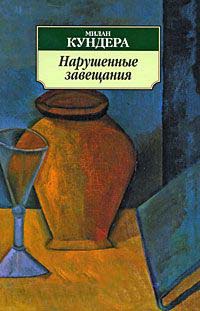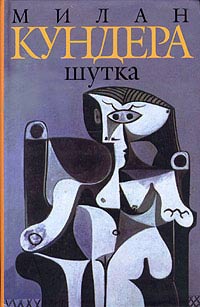— Кто же еще? А стадо быть, собственной персоной. По-другому не бывает. Чем могу быть полезен, сударь?
Значит, философ точно он. После этих слов не может быть никаких сомнений.
Только с какой стати он лезет ко мне в душу с ногами, коль скоро я не хотел и не хочу его знать? Если он приходил мне на память, я принимался насвистывать. Его я никогда не принимал всерьез, и вот он здесь, здравствуйте пожалуйста! Но зачем?
Начато — следует разобраться. Я попытался изложить суть дела. И вот ведь что интересно: даже объяснять не пришлось, он сразу смекнул, что к чему. Оказалось, молодой человек прекрасно помнит нас.
— Ах, это дамочка, которая отправилась в Лондон, а оттуда в Испанию, верно? — воскликнул он.
Короче говоря, в уплату за хранение вещей они вынуждены были пустить с молотка мое барахлишко и мебель, которые мы оставили у них на складе при отъезде в Лондон.
— Само собой разумеется, сударь, поскольку никто не платил за аренду склада, и некого было известить, почти все средства от аукционной распродажи ушли на покрытие наших расходов, а та скромная сумма, что осталась, положена на депозит, и вы можете ее получить, — объяснил он. — Равно как и барахлишко мадам, которое не удалось распродать.
Мой слух задело это слово. Не только потому, что молодой человек отнесся с таким пренебрежением к моему скромному имуществу, приравняв его к помоечному хламу, но главным образом потому, что считал его принадлежащим моей жене. Я не мог оставить этот факт без внимания.
— И у вас хватило духу пустить с молотка вещи вашей любовницы? — тихо спросил я самым что ни на есть миролюбивым тоном. Пораженный моим вопросом, он тотчас перешел к другой манере общения.
— Как вы изволили выразиться?
— Знаете, что, — сказал я, — хватит ломать комедию. Надоело! Моя бывшая жена была вашей любовницей, а вы не сочли нужным оказать ей услугу, сохранив ее мебель и убогое барахлишко, как вы учтиво выразились? Не притворяйтесь, уважаемый! — не дал я ему раскрыть рта. — Мне все известно. Я знаю, что вы философ, знаю, что вы переписывались… Помолчите! О расшитых шлепанцах, о пташках — я обо всем осведомлен. Супруга во всем призналась мне под конец.
— Что вы говорите?! — спрашивает он опять, и чувствуется по голосу, что он задыхается.
Но затем Танненбаум развеселился.
— Слов нет, интересно, — заметил он сперва. — Не будете ли столь любезны сообщить, в чем же именно призналась вам ваша супруга?
Я ничего не ответил, и он удовлетворенно расхохотался.
— Как жаль, что я не слышал этой исповеди, — весело продолжал он. — Ведь здесь, любезный сударь, имеет место недоразумение, ошибочная оценка личности. К сожалению, — добавил он. — Мне-то очень хотелось соблазнить вашу жену, но не удалось. Она устояла против моих поползновений.
— Вы здесь? — прокричал он в трубку.
— Продолжайте, — безразличным тоном ответил я.
— Так что извольте освежить ее память, если та настолько ослабла, и напишите ей в Испанию, что она меня с кем-то спутала. Что не со мной изменила вам, потому что я не из таких. Я был влюблен в нее до безумия, а она водила меня за нос, наглая, бессовестная мадам. Можете так прямо и написать, этими словами, передайте ей от моего имени. И еще напишите, что я, мол, рад больше не иметь с нею никаких дел… Да я ей шею готов был свернуть, а не то что спустить с молотка ее мебель! Я бесплатно давал ей уроки и я же еще храни ее мебель?
— Если мои слова кажутся вам оскорбительными, я к вашим услугам. Честь имею! — завершив сей витиеватый пассаж, он положил трубку.
Что же мне теперь, стреляться с ним на дуэли? К тому же из-за особы, которая давно обретается в других Палестинах?
«Не повезло бедному парню, — думал я. — Именно ему. А я теперь должен снести ему башку, или он мне?»
С мелкими делами я управился, а вот куда время девать?
В Южной Америке я долго вынашивал план забрать к себе в Париж моего друга Грегори Сандерса. Зажили бы мы с ним тихо-мирно как любящие братья. Приятная была мечта, поскольку я действительно любил старика. Пожалуй, он был единственным, о ком я могу сказать это безо всяких натяжек. И вот ведь какие странные шутки разыгрывает жизнь: эта истина лишь тогда предстала передо мной во всей своей несомненности, когда мы расстались, чтобы больше не встретиться. А может, всему виной злой рок, со всей беспощадностью обрушившийся на беднягу.
Ведь жизнь отнюдь не баловала его, а он еще в письмах утешал меня. Меж тем на старости лет он остался один как перст, сын промотал большую часть отцовского состояния, после чего сбежал с какой-то бабенкой, сам Сандерс не вылезал из хворей, потому я и мечтал забрать его к себе в Париж. Вот уж когда наговоримся всласть! И перед глазами у меня стояли следующие строки из его письма, присланного мне в Южную Америку:
«Город Хастингс, июль.
Сегодня ко мне в окно залетел шмель и угодил под вентилятор, который ты прислал мне в начале лета. Лопасти тотчас захватили его и отбросили к моей руке, на книгу, которую я читал. Я внимательно разглядывал его, потому что было в этом эпизоде нечто, весьма заинтересовавшее меня. Шмель был еще жив, шевелил лапками, даже пытался ужалить меня.
Но в нем не было ни тени укора. Он не проклинал ни себя, ни свою участь, думая, что напрасно он залетел в это окошко. Судя по всему, он не разделял в своем сознании этот мир на события неизбежные и случайные… И стало быть, не терзался бесполезным сожалением, что тому или иному он сам был причиной… Ибо то, что стряслось с ним, — закономерно. Словом, случайное он принимает за неизбежное, чему следовало бы у него поучиться, так как, судя по всему, подобное восприятие свойственно здешнему мироустройству. Значит, надо бы прийти к тому же обратным путем: следует быть более гибким, друг мой. Чаще склонять голову, ниже и покорнее. И для тебя было бы полезней, и для меня — вот тебе мой наказ».
Очень подействовали на меня его слова и настолько утишили мои самообвинения, что именно тогда зародилось во мне решение перевезти его к себе. Не скрою, я даже был доволен собой, что вместо дурацких грандиозных замыслов я отдаю предпочтение простой задаче. Радовался, что додумался до этого, что теперь точно знаю: он мне необходим и его общество мне желанно.
Написал он мне и другое содержательное письмо, непосредственно перед смертью, этому посланию я обязан еще большим. Вот как оно звучит:
«Характерно здесь вот что: до сих пор ни в одном создании не возникало внезапного чувства, что я живу в нем, то есть оно почувствовало бы в себе мою жизнь (жизнь человека, которого впоследствии нарекли Грегори Сандерсом). Ведь с тех пор как существует мир, подобного никогда не случалось, а вот теперь, в середине прошлого века, это неожиданно произошло со мною: в один прекрасный день я осознал не только, что я есмь здесь, но что я — это я и никто другой. Ибо самое существенное во всем именно это обособление: впоследствии никто не путал меня с собой и я себя ни с кем другим — никогда. А ведь сколь во многом мы схожи между собою, верно? И только в одном этом — нет, как прежде, так и позднее… каждый из нас окончательно и бесповоротно — на особицу. Если же это так было, то так будет и впредь. Ведь если бы отныне было возможно, то и прежде — тоже. В том великое утешение природы, друг мой. Некоторые восточные секты погружаются в эту истину настолько, что для них желаннее жаркого Солнца то, что они толкуют и проповедуют долгие тысячелетия: каждая сила сохраняется здесь, любая форма повторяется, лишь то сокровенное, что я чувствую и знаю о себе — я — это я — уникально. Лишь теперь я понимаю их по-настоящему, их безмерное преклонение перед этой святой истиной. Лучшего для себя я и не знаю».