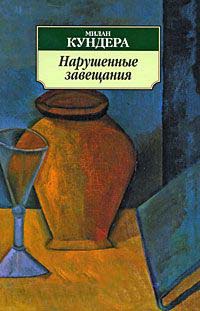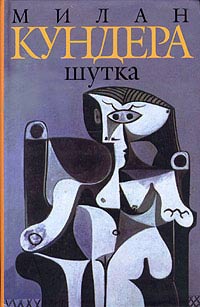После столь разнообразных впечатлений я решил, что даже к Кодору наведываться не стану, и довольствовался дошедшими до меня слухами о нем.
Итак: Кодор не умер от той страшной болезни, хотя конец его был близок и врачи поставили на нем крест. И вдруг, чудесным образом, к величайшему изумлению лекарей, он выздоровел. (Что почти естественно, если учесть, что вся жизнь его была полна чудес.) Ведь специалисты установили рак, ну а уж когда взялись оперировать!.. Вскрыли, поняли, что случай совершенно безнадежный, и не прикасаясь к опухоли, снова зашили. И вот, в один прекрасный весенний день, Кодор велел подать ему пива и с тех пор ежедневно выпивал по две пииты.
По этой ли причине он излечился окончательно? Сам Кодор утверждает это со всей определенностью. Мне тоже доводилось слышать с тех пор, что подобное явление известно, встречаются опухоли с причудами: стоит вскрыть пораженную полость, и они чудесным образом заживают, судя по всему, под воздействием воздуха.
Впрочем, обстоятельства не так уж и важны, суть же в том, что Кодор чувствует себя хорошо, про хвори и думать забыл и разбогател пуще прежнего. Достиг небывалых высот… аж до самого звездного неба, как выразился безмозглый управляющий «Брайтона».
Он по-прежнему прочно занимал свое место, таким ничего не делается. Целый мир вокруг него ушел под землю, среди них прекраснейшие люди, в том числе и другой управляющий гостиницей, которого я очень почитал, и Грегори Сандерс, кого я очень любил. Но этому толстобрюхому бег времени был нипочем: он, как и прежде, околачивался здесь, вблизи лифтов и вентиляторов, едва постарев. Больше того, даже взгляд его остался прежним: презрительный и пустой, как у верблюда.
— Вот видите, что значит судьба, — изрек он. — К одному, лицом, к другому — совсем наоборот. Нет здесь никакой системы. Миссис Коббет, к примеру, совершенно опустилась. Да-да, — кивнул он с многозначительной улыбкой. — Отправилась в Америку и там сгинула среди ночей.
Он странно рассказывал об этом: язвительно и не без страха. Должно быть, воображал, бедняга, будто бы там буйно процветает разврат, а ночи, подобно вампирам, высасывают из человека все жизненные соки.
Я ничего не ответил ему.
— Ой! — вскрикнул он вдруг. — Ну, и странный же вы человек! В жизни своей таких не встречал. Подхватился и уехал отсюда в два счета. Нет, чтобы сказать, куда пересылать вам почту, а вас тут письмо дожидается. Вовремя же я спохватился, а вам даже ни к чему спросить, нет ли каких посланий! — И он метнулся к кассе.
Когда же я, едва глянув, даже не распечатал письмо, он и вовсе опешил. А мне достало одного беглого взгляда, чтобы сразу же бросить письмо в сумку, где хранились прочие бумаги.
— И такого отродясь не видал! — поразился он. — Удивительный вы человек. Неужто вам даже не любопытно? Я четыре года храню письмо, а он и в конверт не заглянет!
— Если оно столько времени здесь пролежало, то теперь уже не к спеху.
— Вот он что… — пробормотал он. — По крайней мере теперь я вижу, как сколачивают состояния.
— Попытайте счастья! — рассмеялся я.
Однако факт, что, уезжая, я действительно не оставил никакого адреса. Всего один-два человека знали, куда я отправляюсь, остальным нет никакого дела до меня. Словом, оборвал я тогда все здешние контакты и даже возможности связаться со мной.
Читай я письмо сей же час, когда я сразу увидел, что оно — от моей жены!
Да и как было не увидеть! Адрес на конверте напечатан на машинке, коричневым шрифтом, но само письмо пришло из Барселоны. А поскольку у меня в Испании нет никаких других знакомых, а жена моя отправлялась именно туда — я слышал от многих, что она обосновалась в окрестностях Мадрида, — значит, послание, несомненно, от нее.
(Барселону, кстати, она часто вспоминала, подчеркивая, до чего любит этот город.)
Но я больше не читаю писем от нее. Я ведь с самого начала знал, что она будет мне писать, только нам незачем — да и не о чем — переписываться. Будем считать, что я перестал существовать для нее, а стало быть, и все общие дела тоже. Словно бы смерть перерезала наши жизни надвое, окончательно и бесповоротно.
Потому-то я не колеблясь бросил письмо в сумку. Сожгу, когда останусь один, ведь его даже обратно не отправишь, поскольку отправитель не значится — это я отметил сразу же. Порвать на глазах у управляющего? Много чести доставлять ему такое удовольствие. Он и без того чересчур интересуется моими делами.
— Не женились вы там? — лезет он ко мне с расспросами.
— Что значит — женился? Ведь я женатый человек, сударь мой.
— Как это — женатый?
— Да вот так! — отрезал я.
И тут он наконец-то обиделся. Посопел недовольно и встал с места.
Выходит, следят за твоими делами. Этот субъект знал, что я развелся. Кстати, где бы я ни появлялся, к ней проявляли интерес повсюду и невольно, хотя и не были с ней знакомы, да и я никогда не говорил о ней.
И как ни странно, все же это случилось. Стоило только мне ступить в Европу.
Как началось, так и продолжилось.
Едва успел я приехать в Париж, и мне снова пришлось заниматься ею. Позвонил мой адвокат — сообщить, что на мое имя есть поступление в один из здешних банков, судя по всему, связанное с транспортировкой каких-то грузов.
— Каких еще грузов? — поинтересовался я, но он понятия не имел.
Сам я тоже не помнил, чтобы когда-либо у меня были здесь дела подобного рода. Понапрасну изучал я на другой день банковское извещение: на мое имя положен вклад, поступают проценты, — мне это ничего не прояснило. А я привык к ясности в делах, не пренебрегая даже мелочами.
Хорошо помню, было раннее утро, примерно через месяц после моего приезда, тогда я жил еще в гостинице. Сидя в постели, я долго разглядывал банковское извещение, словно чувствуя, что это опять какая-то весть из прошлого. Но какая? Продажей с аукциона я никогда не занимался — во всяком случае, в Париже, — а в документе шла речь и об этом.
Я ломал голову, а о простейшем варианте не подумал.
— Отчего бы вам не позвонить в контору, на которую мы ссылаемся в своем письме? Бумага у вас в руках, прочтите номер телефона, — посоветовал мне нахальный клерк, когда я обратился в банк. (Французы ведут себя на редкость высокомерно, особенно с иностранцами.) И можете представить себе мое удивление, когда я позвонил в фирму и мне ответили в точности следующее:
— Алло, это Танненбаум. Кто говорит и что вам угодно?
Я чуть не свалился с кровати.
— Да не шутите! — ответил я. — Танненбаум-младший, собственной персоной, не так ли?
Конечно, такие вопросы задаешь только от смущения. На что он, все с тем же неколебимым спокойствием: