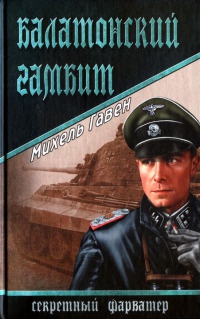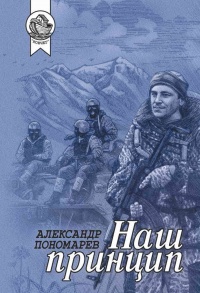себя чувствовать, ей необходима напряженная атмосфера. Она чем-то там помогает домовому комитету, ведет какой-то учет, составляет списки. Паула! Никогда бы в это не поверил!
— Вы в костел? — остановила Анну в воскресенье пани Амброс, дежурившая по подъезду. — Будьте осторожны. Эти безбожники праздников не соблюдают. Да и толпы возле посольств — лакомая цель для немецких летчиков.
Действительно, люди толпами высыпали на улицы. Несмотря на грохот бомб, сбрасываемых на Окенце, и на частые воздушные тревоги, город обезумел от радости, узнав о вступлении в войну союзников Польши. Анне тоже передалось охватившее всех возбуждение. Стар и млад целовались, хлопали друг друга по плечам, кричали.
— Наконец-то! Теперь мы не одни!
— Да, не одни! Да здравствует Англия!
— Да здравствует Франция!
Сначала люди выражали свой восторг перед британским посольством на Новом Святе, а затем плотной лавиной двинулись в направлении улицы Вейской, к «французам», на Фраскати. При виде флага, развевающегося на здании посольства, в воздух полетели береты, шапки, женские шарфики, разноцветные флоксы и крупные шары георгинов, сорванных на соседнем сквере. Толпа волновалась, как море, и, окрыленная надеждой на победу, кричала:
— Vive la France! Да здравствует Франция! Да здравствует!
Кто-то, стоящий с трехцветным флажком в руке рядом с Анной, чистым голосом запел «Марсельезу», и через мгновение пели уже все вокруг.
У Анны, впервые услышавшей в Варшаве этот гимн, столь хорошо знакомый ей по «школе Дьявола», стеснило дыхание. Свершилось! Желанный день наступил, дело не ограничится, как надеялся Гитлер, только германо-польской войной, Польша не станет его очередной добычей. «Le jour de gloire», — пела толпа. Западные союзники сдержали слово, и ошибался старый Ианн ле Бон, который советовал не верить никаким обещаниям Парижа и не доверять подписям, которые ставят на документах преемники Первого консула, захватчика Геранда и всего армориканского побережья. Короче говоря — французам. Ох, эти французы!
В радиопередачах слова «Allons enfants de la patrie!» переплетались с задорной мелодией песенки «Гей, стрелки, все разом!», предостерегающие возгласы «Внимание! Внимание! Налет!» — с запрещением пользоваться телефоном во время воздушной тревоги, таинственное «Вэ — ноль — четыре, пролетел» — с настойчиво-бессмысленным рефреном «Эх, хорошо на войне!», а сообщение о предстоящей третьего сентября в Летнем театре премьере комедии «Разбитое сердце» — с поистине разбитыми сердцами людей, прощающихся со своими близкими, с сердцами, начинающими торопливо биться при слухах о том, что наших летчиков не видно над столицей, потому что все самолеты на аэродроме Окенце сожжены, а корпуса авиационного завода охвачены огнем.
Телефонная связь с пригородами еще действовала, и вечером Анна получила из «Мальвы» первое поручение.
— Узнай, — кричала прабабка, — где Казик и Анка — еще на аэродроме или в аэроклубе? Если туда не дозвонишься, попробуй справиться на Саской Кемпе. Может, их мать что-то знает, а может, Ванда?
Но на аэродроме к телефону никто не подходил, а их мать знала только, что Казик, как подпоручик запаса, вылетел из Варшавы еще до первой воздушной тревоги, Анка же прислала на Саскую Кемпу харцера[27], который сообщил, что летчица Корвин домой не вернется, участвует в операции по перегонке с Мокотовского поля уцелевших самолетов. А Ванда раздобыла где-то старую подводу, впрягла в нее лошадь, которую оставили ей на попечение друзья, и перевозит на ней все что попало: продукты для кухни, обслуживающей беженцев, жителей разбомбленных домов…
В ту жаркую ночь Анна не опустила на окнах черных бумажных штор и долго сидела у письменного стола Адама, всматриваясь в небо. Город был совершенно темный, измученный переживаниями, демонстрациями перед посольствами союзников, воем сирен, бомбежками, заставлявшими бегать в убежища. И вдруг в еще дышащей дневным зноем тишине до ее слуха донесся скрип телег, громыханье колес и монотонный, глухой шум шагов. Анна высунулась из окна и посмотрела вниз, в сторону Маршалковской.
Там шли люди. Брели, навьюченные узлами, толкая впереди или волоча за собой всевозможного рода тележки, шагая рядом с нагруженными поклажей велосипедами. Ночь была столь ясной, небо так вылизано языками прожекторов, что видно было толпу, текущую по улице, плотно сбитую, густую толпу и крестьянские телеги, заваленные пожитками. Стучали о мостовую копыта лошадей, выли плетущиеся за хозяевами собаки.
Люди шли. В тишину кажущегося уснувшим города — хотя все его взрослые обитатели еще бодрствовали — вторгалось что-то чуждое: назойливое тарахтенье телег, шарканье тысяч ног мужчин и женщин, прибывших в Варшаву неизвестно откуда именно в эту ночь, когда все кварталы облетела ободряющая весть о вторжении польской кавалерии в Восточную Пруссию и о замечательной стойкости защитников Вестерплятте, обстреливаемых артиллерией с суши и с теперь уже враждебного военного корабля «Шлезвиг-Гольштейн».
Шли, гоня впереди себя коров, овец, коз, рекой вливаясь в главные артерии города, вселяя тревогу в сердца тех, кто стал свидетелем этого бегства от ужасов войны, этих скитаний бездомных.
В эту минуту в прихожей настойчиво зазвонил телефон. Это был Павел. Он подтвердил сообщение о вторжении польской кавалерии в Восточную Пруссию и захвате пленных в этой первой выигранной на чужой территории схватке. На Вестерплятте майор Сухарский со своим батальоном, несмотря на отсутствие подкреплений, все еще удерживал позиции.
— Оставь! — перебила его Анна. — Я же вижу, что происходит здесь, в центре. Со стороны Мокотова идут толпы беженцев. Не знаю, куда они направляются, но идут и идут беспрерывно. Ты меня слышишь? Павел! Павел!
В телефонной трубке что-то звякнуло, и чужой, злой голос рявкнул:
— Отключись! Немедленно! Ты паникерша, трусиха!
— Павел!
— Нет здесь никакого Павла! Заткнись!
Анна бросила телефонную трубку, словно та обожгла ей пальцы. Впервые в жизни ее обвинили в трусости только потому, что она говорила правду. А за окнами движется, колышется людская волна. Слышно шарканье ног, то затихающее, то усиливающееся, но ритмичное, как удары прибоя о берег. Идут, убегают… нет уже Павла… идут, идут… никакого Павла уже нет… есть лишь толпы беженцев, еле волочащих ноги… они идут, заражая своим страхом других… ее тоже кто-то назвал трусихой… люди спешат, они понимают: нет ни безопасного неба, ни безопасных жилищ. Убегают, уходят, а позади них — пожары, пепелища, воронки от бомб, немецкие летчики, стреляющие в людей, бредущих с узлами, тачками, детскими колясками…
Позади них — немцы.
Но полностью весь ужас случившегося Анна осознала лишь на следующий день. Направляясь на Котиковую, она пробиралась сквозь скопища измученных, истощенных людей, расположившихся где попало — у стен домов, под деревьями. Улицы, еще недавно содержавшиеся в чистоте, были загажены скотом, людьми, на тротуарах сено, пучки соломы.
Какая-то толстуха, без стеснения задрав юбку, рассматривала свои распухшие как колоды ноги, но на боль не жаловалась, а только вздыхала:
— Боже! Сколько