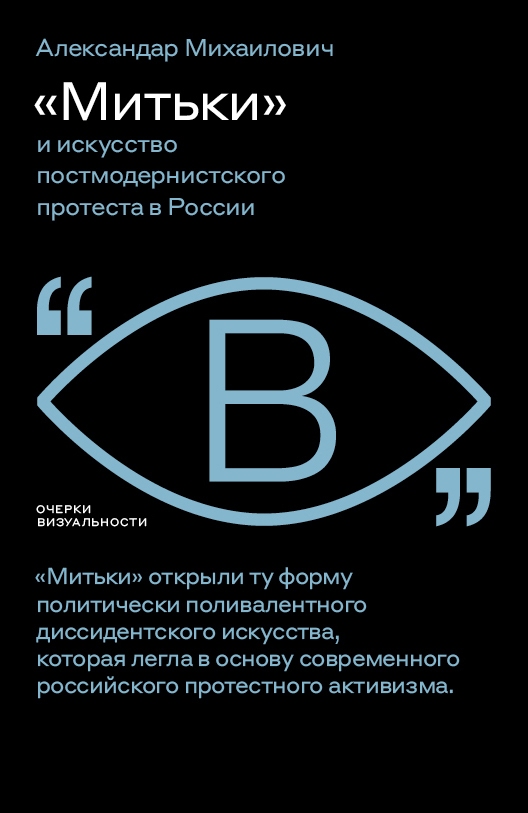прицельным оскорблением в адрес евреев, которые считались особо опасными космополитами из-за их связей со всемирным еврейским сообществом и якобы недостаточной преданностью русской культуре. Фадеев обвинил Нусинова, известного специалиста по русской и еврейской литературе, в том, что, анализируя творчество Пушкина (в книге 1941 года «Пушкин и мировая литература»), он придает слишком большое значение европейскому измерению величия поэта[265]. Нусинов был арестован в 1949 году и умер в заключении.
Еврей как чужак – основной тезис конца 1940-х – вновь зазвучал по ходу судов над литераторами в 1960-е. В 1964 году поэта И. А. Бродского осудили за «тунеядство», то есть за отсутствие постоянного официального места работы. Основанием для законодательства против тунеядства было марксистское кредо «кто не работает, тот не ест». Бродский был сотрудником географического института, не получил высшего образования ни по литературе, ни в какой-либо иной области, не являлся членом Союза писателей, не отслужил в армии и время от времени делал переводы по договорам. Он не смог доказать, что его поэзия санкционирована официально; судья задал ему вопрос: «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?»[266] На суде всплыл вопрос о переводе и проблеме установления авторства: Бродского обвинили в присвоении чужого труда, поскольку он использовал подстрочники при переводе сербских и польских текстов, которые потом литературно обрабатывал. В суде использование Бродским подстрочников – стандартная практика – было истолковано почти как плагиат. Бродского признали тунеядцем и приговорили к пяти годам высылки, во время которой он работал в колхозе. Как поясняет Д. Бетеа, сам Бродский видел причины своего ареста в том, что он был чужаком во всех отношениях: «Так вышло, что во мне сочетались два самых подходящих свойства: я писал стихи и был евреем»[267].
Через два года, в 1966 году, Ю. М. Даниэль, писатель и переводчик (сын писавшего на идише беллетриста и драматурга М. Даниэля) и А. Д. Синявский, использовавший еврейский по звучанию псевдоним «Абрам Терц», были обвинены в клевете на советское правительство. Обвинение, в частности, упирало на тот факт, что псевдоним себе Синявский взял по имени еврейского криминального авторитета из Одессы. Газетная кампания против Синявского и Даниэля строилась на риторике сталинского «дела врачей»: как врачей-евреев в 1950-е, так и писателей в 1960-е называли «оборотнями». На суде обвинитель намекал на то, что на самом деле Синявского и Даниэля судят за самозванство. Один из обвинителей сказал про Синявского, что тот «одно время выдавал себя за советского литературного критика». По версии обвинения, Синявский оказался хулиганом Терцем, который совершил государственную измену своими антисоветскими опусами, публиковавшимися за границей. Как это сформулировал сам Синявский в романе «Спокойной ночи»: «[он] сам должен понимать, что никакой он не уважаемый, не Андрей и не Донатович, а доказанный и заклятый предатель Абрам Терц»[268]. В языке обвинений против Синявского и Даниэля закодированы мнимые опасности той роли, которую евреи играют в советской системе: их слишком явное присутствие во власти, умение скрывать свою подлинную сущность, опасная пластичность.
Нападки конца 1940-х также послужили образцами для более поздних антиеврейских кампаний, в ходе которых оспаривалась способность евреев выступать в роли переводчиков (в широком смысле), эмиссаров и творцов русской культуры. В процессе противостояния 1977 года, известного как «Классика и мы», вновь была задействована идеология кампаний против космополитов. Название «Классика и мы» носил форум, проходивший в Центральном доме литераторов в Москве, в котором участвовали писатели, театральные режиссеры и литературные критики. В печатном органе Союза писателей, журнале «Москва», в 1990 году был опубликован стенографический отчет об этом событии. Противостояние это находилось на авансцене русской литературной жизни многие десятилетия, писатели с разных сторон политического спектра возвращались к тем же провокационным дебатам и в постсоветский период[269]. По ходу форума 1977 году С. Ю. Куняев, писатель и критик, заявил: не язык и талант, а только кровное происхождение определяет, кто может считаться автором русской классики. Говоря о стихах Багрицкого, он выставлял его, еврея, врагом русской культуры[270]. Как и во время кампании против космополитов в 1940-е годы, участники форума 1977 года усомнились в способности А. М. Эфроса ставить русские пьесы, поскольку по национальности он не русский. Примерно двадцать лет спустя, развивая тот же тезис, Куняев предложил различие между русскими авторами, которые создают (подлинную) русскую литературу, и русскими авторами еврейского (или иного нерусского) происхождения, произведения которых точнее назвать «русскоязычными»[271]. Подобным же образом В. Г. Бондаренко различает русскую литературу, космополитическую литературу, написанную по-русски, и русскоязычную литературу [Бондаренко 2002]. В интервью 2007 года Куняев согласился с тем, что в учебниках по русской литературе представлены только русскоязычные авторы, такие как Бродский, Т. А. Бек и Гроссман, но в них отсутствуют произведения русских авторов. Россия проиграла Вторую мировую войну на фронте под названием «русская литература»[272]. Для сторонников таких взглядов понятия «русскоязычный» и «космополитический» являются пейоративными[273].
Идиш и язык Толстого
Давняя подозрительность оказала глубокое воздействие на бытование евреев как творцов русской культуры, переводчиков и эмиссаров в позднесоветский и постсоветский периоды. Слезкин утверждает, что широкая представленность евреев в элитных творческих профессиях подразумевала полный отказ от еврейства и идиша – он называет это превращением местечковых евреев в «пушкинских евреев» (только в Советской России, как следует из дела Нусинова, якобы неверное истолкование Пушкина могло иметь фатальные последствия). В автобиографических художественных произведениях Карабчиевского показано, как этот процесс трансформации собственной идентичности ощущался изнутри. Карабчиевский дает понять, что утрата идиша и еврейского прошлого – процессы крайне неоднозначные.
Карабчиевский, инженер-электрик по специальности, начал публиковать свои стихи в СССР в начале 1960-х; в 1979 году он был среди авторов запрещенного литературного альманаха «Метрополь», но изначально внимание литературных кругов привлек крайне неоднозначной книгой, посвященной Маяковскому[274]. Его «Жизнь Александра Зильбера», написанная в середине 1970-х, сначала вышла за рубежом; в СССР ее опубликовали в журнале «Дружба народов» в 1990 году и в сборнике других произведений автора в 1991-м (в год распада СССР), новое издание вышло в 2004-м.
«Жизнь Александра Зильбера» открывается рассуждениями о многообразии ассоциаций, связанных со словом «лагерь»:
Ни одно слово не живет само по себе – но лишь в сочетании с другими, названными и не названными. Мы говорим «лагерь» – и мрачные призраки обступают это слово со всех сторон, и толпятся, и машут черными крыльями. Но мы говорим «лагерь» и добавляем «пионерский», и это действует, как крестное знамение. Призраки убираются к себе в преисподнюю, и звучит