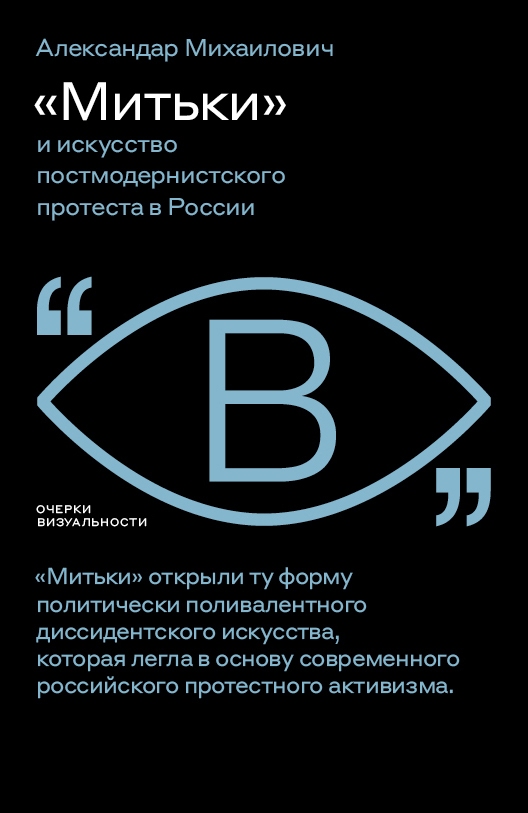силе[260][261]. Политика перевода в тот период делала особый упор на объединяющую русоцентрическую и соцреалистическую литературу. С учетом этих обстоятельств слова Выгодского в защиту использования гибридов приобретают особое значение. В них отражено то, что Л. Венути называет «переводческой этикой различий» – практикой, предполагающей уважительное отношение к иноязычности переводимого произведения и внедрение некоторой странности в язык перевода [Venuti 1998: 81–87].
Мандельштаму, как и Выгодскому, не нравились обезличенность и бесцветность русских переводов его времени. «Сколько-нибудь внимательный читатель, – писал Мандельштам, – заметит, что в русских переводах почти все иностранные писатели – от Анатоля Франса до последнего бульварщика – говорят одним и тем же суконным языком» [Мандельштам 1979:283]. Переводчики, по сути, «соединяют мозг массового советского читателя с творческой продукцией Запада и Востока», однако, по мнению Мандельштама, соединяют халтурно. У самого поэта вышли серьезные разногласия относительно переводов, которые он выполнил для издательства «Земля и фабрика». «Земля и фабрика» забыла указать в книге имена А. Г. Горнфельда и В. Н. Корякина, двух переводчиков романа Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель» – создалось впечатление, что единственным автором перевода является Мандельштам, который его только редактировал. Горнфельд и Д. И. Заславский обвинили Мандельштама в плагиате; в 1929–1930 годах он откликнулся яростной отповедью в адрес Горнфельда, – в статье, получившей известность как «Четвертая проза».
В статье переплетаются темы еврейства, литературного творчества и перевода. Г. Фрейдин отмечает, что в этом тексте Мандельштам называет себя «наследником библейских пастухов, патриархов и царей», гордится «почетным званием иудея», а нападки на Горнфельда формулирует на «странно антисемитском языке»[262]. Мандельштам говорит Горнфельду: «ты бы лучше поведал свое горе банкиру с ишиасом, кугелем и талесом» [Мандельштам 1979: 319]. К. Каванах считает, что скандал по поводу плагиата позволил Мандельштаму сформировать новую идентичность, в которой объединялись образ еврея как постороннего и образ поэта как постороннего [Cavanagh 1991]. Благородный еврей, ведущий свой род от библейских времен, «не обязательно еврейского происхождения: “почетное звание иудея” – это общий титул всех тех, кто отказывается сотрудничать с официальной культурой государства угнетения» [Cavanagh 1991: 321]. Как пишет Каванах, «иностранность, фрагментированность, несвязность становятся сутью искусства и культуры, которая состоит, как и сам Мандельштам, из “воздуха, проколов, прогулов”» [Cavanagh 1991: 323][263].
Сделанный Каванахом акцент на бестелесном нееврейском еврее заслуживает более подробного обсуждения. Скандал с Горнфельдом Мандельштам назвал «литературным обрезанием». Только пройдя через этот ритуал, он получил «почетное звание иудея». По словам самого Мандельштама, над ним
возымели намерение совершить… коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу – литературное обрезание или обесчещенье, которое совершается согласно обычаю и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин [Мандельштам 1979: 321].
Именно этот ритуал, сколь угодно «гнусный» (Мандельштам говорит: «с целью меня оскопить»), дал толчок его новой поэтике преступности, неприкаянности и «воздуха» – пространства между отдельными нитями брюссельского кружева или дырки в бублике, поэтики, которую Мандельштам очень любит. В «Четвертой прозе» Мандельштам использует и еще один образ, который намекает на связь между обрезанием и наименованием: «Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией» [Мандельштам 1979:324]. В Книге Бытия Абрам после обрезания обретает новую идентичность – становится Авраамом; это завет на плоти, через который Бог дает обещание произвести от евреев народы и царей (Бытие 17: 6,14).
Будучи проштемпелеван и изрешечен собственным именем, Мандельштам превращается в поэта «Четвертой прозы», пребывающего в мучительных странствиях между «телом буквализма» – уникальным неповторимым высказыванием – и ускользающим круговоротом смысла. Деррида определяет перевод как перемещение от первого ко второму [Derrida 2001]. Для Мандельштама слово – вещь материальная, порожденная органом из плоти, ртом. Слово оставляет во рту физический след; телесная весомость произнесенного слова – центральная тема «Нашедшего подкову». Однако акцент на телесном совершенно не обязательно подразумевает буквальность; не существует полного совпадения между авторами и словами или между словами и смыслами. Смыслы подвижны. Мандельштам завершает «Четвертую прозу» талмудическим образом двух евреев, «неразлучные двое – один вопрошающий, другой отвечающий, и один все спрашивает, все спрашивает, а другой все крутит, все крутит, и никак им не разойтись» [Мандельштам 1979:325]. Мандельштам является одновременно обоими этими персонажами: в «Четвертой прозе» он повествует о собственном повторном обрезании как еврея, который преодолевает отмеченную апостолом Павлом дихотомию между еврейским плотским буквализмом с одной стороны и христианской духовностью с другой. Мандельштам одновременно занимает обе эти позиции: он и телесен, и духовен.
В то самое время, когда Мандельштам писал «Четвертую прозу», Маркиш и Бергельсон также использовали на новый лад библейский троп обрезания, чтобы показать мучительный переход евреев в советскую землю обетованную – об этом говорится в Главе 2. Маркиш прибегает к образу клейма на сердце и шрамов на теле как ран, которые постоянно наносит новый и страшный советский завет. Неудивительно, что подобная конфигурация боли, обещания, общности и производительности стала привлекательным тропом для еврейских писателей-мужчин, которые искали способ для описания как производства нормативной советской культуры, так и субъективности с ее беззаконными альтернативами. Мандельштам был арестован в том же году, что и Выгодский, – в 1938-м. Горнфельд скончался в 1941-м, за несколько месяцев до гитлеровского вторжения в СССР[264].
Послевоенные антиеврейские кампании
Сразу после окончания войны произошел резкий поворот в отношении к евреям. Среди ключевых событий: убийство Михоэлса в 1948-м; арест членов Еврейского антифашистского комитета и их последующее уничтожение; антиеврейский пафос кампании против космополитов в 1949-м; «дело врачей» 1952 года.
«Ключевой посыл» антиеврейских кампаний конца 1940-х годов состоял, согласно Вейнеру, в том, что «еврей оставался вечным чужаком внутри национального тела» [Weiner 1999:143]. Кампания по борьбе с космополитами особенно важна в связи с ролью евреев как эмиссаров русской культуры, поскольку по ходу ее евреев заклеймили как опасных и нежелательных чужаков в советском обществе.
В 1945 году Сталин заявил, что русский народ «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», и с этого момента «космополитизм» стал словом оскорбительным, по сути, синонимом всего нерусского, в том числе западной культуры, технологии и науки. В СССР развернули кампанию демонизации космополитизма, который трактовался как «реакционная буржуазная идеология, проповедующая отказ от национальных традиций и культуры, патриотизма, отрицающая государственный и национальный суверенитет» (Большая советская энциклопедия, 1969–1978). Космополитизм считался «низкопоклонством перед западом». Литературные журналы, театральные постановки, отдельные произведения и авторы, в том числе Ахматова и Зощенко, объявленные недостаточно прорусскими, попали под удар пропагандистской кампании, получившей название «ждановщина» по имени ее инициатора А. А. Жданова. В итоге слово «космополит» стало