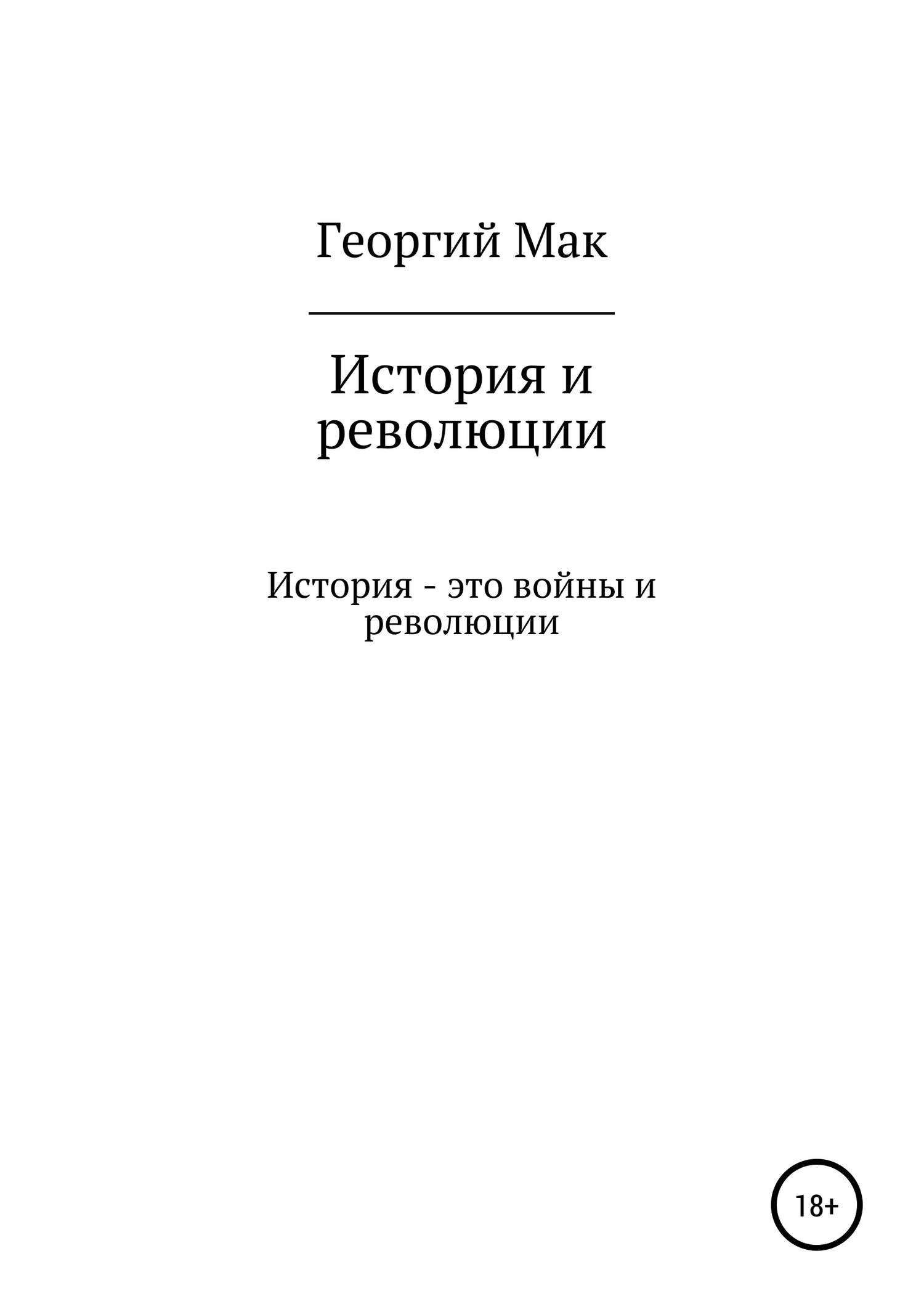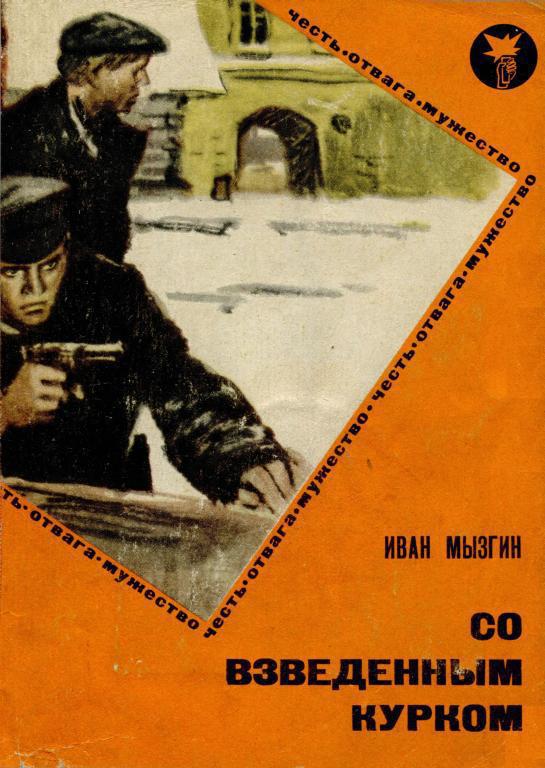на запрещение требовать повторения танцевальных номеров.
В театре Федорова держалась как-то особняком. Её считали чудачкой. Одевалась безвкусно, неряшливо. По внешнему облику мало походила на артистку, да еще императорского балета. Никакого женского шарма вне сцены не имела. По своему образу мыслей – крайняя индивидуалистка передового направления. Однако позднее она очутилась в эмиграции, и держалась там обособленно и независимо, вызывая иронические замечания русской колонии – «ах, эта Федорова!».
Она обладала незаурядным драматическим талантом. Лучшие её роли были: Эсмеральда (в «Дочери Гудулы»), старуха в «Золотой рыбке» и любимая жена хана в «Коньке-Горбунке». Недаром Горский считал своей лучшей или, во всяком случае, своей любимой работой «Дочь Гудулы», мимо-драму, в которой центральное место занимала С. Федорова.
Ее сестра – Ольга Федорова третья. Тоже весьма своеобразная артистка редкого женского обаяния и сценического шарма. Красивой ее никак нельзя было назвать, и сложена для балетной артистки неважно, и внешность совсем простецкая, даже вульгарная, и манеры совсем не изысканные. Ее амплуа – полу-характерная солистка. Но, выступая в классике, и она страдала, и зритель, зато в характерных эпизодах, особенно, когда была в настроении, была даже много эмоциональнее своей сестры. Она очень мало работала над своей техникой, и покоряла она зрителя, главным образом, своей женской непосредственностью.
Ее появление на Мариинской сцене было организовано с явным намерением провалить артистку. Она появилась в первый раз в совсем ей чуждой роли Золушки в дивертисменте в «Спящей Красавице». Номер этот бледный, не динамичный, без какой-либо характерности. По мысли Петипа, по-видимому, эту Золушку следовало бы изображать кокетливой французской субреткой, к чему Ольга была абсолютно непригодна. Бедная московская дебютантка металась по сцене с мехом для раздувания угля (sic!) и чувствовала себя очень скованно и неуверенно, тем более, что и музыка этого номера не может вызвать никакого эмоционального подъема, а без этого Федорова переставала быть артисткой. В Москве Горский исключил Золушку из дивертисмента. Публика из вежливости слегка похлопала Федоровой. Но вот немного позднее Федорова танцевала известный «Форбан» из «Корсара», и зал заревел от восторга. Еще бы, ничего подобного они там, в Петербурге, не видали. Она нарушила все установленные «академические» традиции этого театра. Однако, расточая восторженные комплементы О.В. Федоровой, петербургская критика умалчивала, что успех этой артистки был, прежде всего, успехом «школы Горского». Его вообще петербургская пресса старалась не замечать.[93]
Познакомился я с А.А. Горским после Революции, в 1919 году. Время было суровое. Трудным оно было для всей нашей страны, трудным и для Большого театра. Трудности были творческие и хозяйственные. Уехали кое-кто из артистов: Балашова, Каралли, Фроман, Мордкин, Волинин и др. Театр не отапливался. Было очень холодно. Публика в зале сидела в пальто и шапках. Их снимали из уважения к артистам только некоторые старые москвичи, в том числе: М. Шик, Н.Л. Славин, Г. Гейс, Про. Я придумал себе такой «смокинг»: черная кожаная куртка, крахмальный воротничок и штаны в полоску.
Творческая жизнь балета как будто совсем замерла. Однако Горский репетировал «Щелкунчика». Подготовлялся этот балет уже несколько сезонов, но что-то все задерживало его появление на сцене. Декорации написал Коровин. Монтировка балета проходила с невероятными трудностями. Не хватало самых необходимых материалов. Балет шел без балерины. Ведущие партии исполняли учащиеся школы – Кудрявцева и В. Ефимов (Щелкунчик). Первый акт в основном оставался верным первой петербургской редакции, но вместо знаменитого финального вальса «Снежинок» Горский создал новую хореографическую картину: страну Дедов-Морозов, куда попадают Маша и Щелкунчик. Музыка вальса сохранялась, но в вальсе принимали участие Снегурочки и Деды-Морозы. Здесь же дан большой дуэт Маши и Щелкунчика (музыка pas de deux феи Драже). Показать Дедов-Морозов было и логично, и последовательно. Но все же как-то было жалко «вальса снежинок», хотя эта лесная картина никакого отношения к развитию сюжета балета не имела. Третье действие показывает рождественскую елку, на фоне которой проходят танцы игрушек. Вместо вальса цветов дан вальс кукол, они танцуют его на пальцах, передвигаясь и шатаясь по-кукольному. В дивертисменте вместо пляски буффонов Горский дал очень живую увлекательную русскую пляску «под лубок». Никакого логичного конца или апофеоза (как у Петипа) Горский балету не придумал. В этой постановке совсем пропал слащаво-приторный французский тон Петипа и отсутствовали, так раздражавшие Теляковского, танцующие бриоши (пирожные). Шло все очень свежо, искренно, молодо. Почему-то все же этот балет продержался недолго в репертуаре театра.
После «Щелкунчика» никаких новых крупных работ Горскому в театре не предлагали, если не считать «Пустячков» Моцарта. Новое руководство театра, Е.К. Малиновская, относилась к Горскому сдержанно, только снисходительно-вежливо, не больше. У нее появились свои фавориты, которым она всячески покровительствовала и полностью доверяла судьбы московского балета. Это были В.А. Рябцев (режиссер балетной труппы) и Л. Жуков. Первый, талантливый актер на характерные роли, был из тех администраторов, которые считали, что самое правильное ничего нового самому не придумывать, а угадывать желание начальства. Он знал, что Горский не пользуется авторитетом у руководства театра и не старался предоставить ему возможность для широкой творческой работы. А Горский хотел еще работать и даже томился без живого дела. Правда, в это время он начал как-то физически сдавать. Он стал замыкаться в себя и как-то потерял способность смело мечтать. Но от работы он не отказывался, а в театре ему ничего не предлагали. Многие артисты балета тоже тяготились творческим застоем и отсутствием интересной работы. А ведь еще недавно они с Горским, в порядке частной инициативы, приготовили любопытную новую танцевальную программу, куда входила симфоническая «3-я сюита» Чайковского.
Наконец, группа артистов театра решила создать «самодеятельный» коллектив и предложила Горскому осуществить программу балетного вечера. В эту группу вошли: Е.М. Адамович, Е.И. Долинская, Л. Банк, Н. Тарасов, С.В. Чудинов. Горский охотно согласился. Решили восстановить недавно исполненную 3-ю сюиту Чайковского и добавить к ней: Скерцо («Сон в летнюю ночь») Мендельсона (для солиста) и танцы из оперы «Иван Сусанин». Надо признать, что программа получилась довольно пестрая и бледная. В ней не было гвоздя, но ее преимущество заключалось в том, что большинству исполнителей эти произведения были хорошо известны, и поэтому не требовали длительного времени для их подготовки.
Для меня авторитет Горского, как заслуженного балетмейстера, стоял тогда так высоко, что я считал невозможным обсуждать намеченную им программу. Я мог только предлагать, а решал он с коллективом артистов и с А.Ф. Арендсом. Теперь я знаю, что программа была составлена неудачно, не привлекла бы внимания публики, и не могла бы иметь и материального успеха. Мне кажется, что было бы более удачным составить