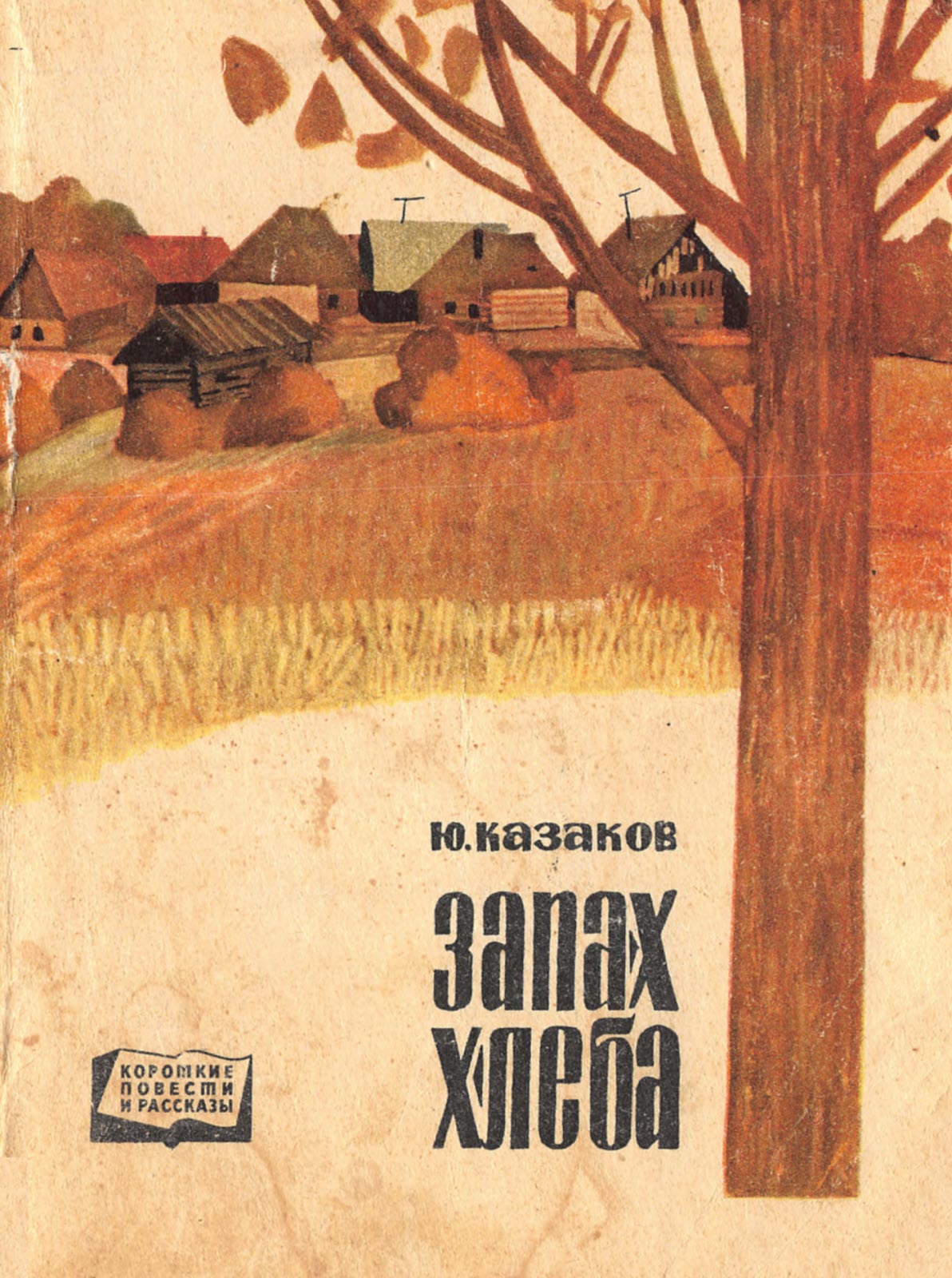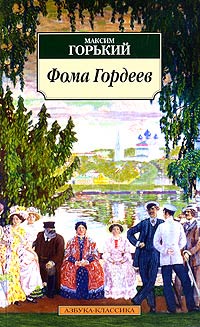больницу, до которой от них было ближе всего. Тяжелая это была дорога…
Родился мальчик шести с лишним килограммов весу. Событие это благополучно прошло мимо его отца, который по прошествии недели — очень ответственной и, без сомнения, напряженной, — появившись дома, получил от своей доброй матери изрядный нагоняй. Когда он хотел возразить, она его перебила и приказала бросить все, умыться и бежать в больницу — поглядеть на сына.
Оторопевший Павел сел за стол возле тарелки с картофельным супом и удивленно спросил, как же это все-таки получилось. Подобный вопрос несколько примирил пани Моравкову с сыном. Она изложила ему свой взгляд на скудоумие мужчин и убеждение в том, что, если женщина беременна, она при всех нормальных обстоятельствах должна произвести на свет ребенка, коим в данном случае был мальчик, получивший имя Павел. Наде он задал перцу, и она пока должна лежать. Неделю целую они не знали ничего о муже и о сыне. Дрянь эта ничего им не передавала (имелась в виду соседка, у которой был телефон). Надо было думать головой — не передавать через людей, тем паче через эту шлюху богомольную (шлюх богомольных Надина свекровь не жаловала), а забежать домой или прислать с запиской младшего товарища, ученика какого-нибудь… «Ты уж совсем свихнулся, — заключила свою речь пани Моравкова, — в такое время держишь в голове одну политику. Ох, не пришлось бы пожалеть, парень…»
Тем временем сын окончательно пришел в себя. Судить об этом можно было по тому, что он с охотой навернул картофельного супа и тут же за столом уснул. Мать обнаружила это, когда принесла ему крепкого чая и булку с маком.
ЭЛЕГИЯ
Не знаю даже, отчего именно сегодня мне хочется плакать. Должно быть, наша бесконечная зима порождает призраки. Чего бы я ни отдала, лишь бы мои дорогие призраки остались со мной. Не следовало читать Клостерманна, но он так звучит в этих местах, особенно зимой.
Перед глазами мое первое послевоенное рождество. Я провела его с Флидерами. Уже с предрассветных сумерек я ощутила особое напряжение. Нынче понимаю, что это был страх перед пани Тихой и той торжественностью, которая воцарилась в доме. Семья праздновала рождество, впервые собравшись вместе. Тетя Клара и Эмина мама неуклонно настаивали на исполнении всех заманчивых причуд рождественского стола.
Я участвовала в приготовлениях с большой охотой, причем все делала со сноровкой, привитой матерью. Перебирая изюм, этакую диковинку, вспоминала ее. Уходила она из дому в эти дни гораздо раньше обычного. В кухне было холодно и сумеречно, скупой свет уличной лампы озарял ее красивые светлые волосы. Она отправлялась в свою столовую, чтобы готовить сладости для пана главного бухгалтера, для пана управляющего, для пана… Этих панов было не перечесть. Вечерами я перебирала изюм — как и тогда после войны в веселой кухне тети Клары, — очищала миндаль, терла, резала его кубиками или пластиночками, которые затем, окропленные миндальным маслом, медленно и осторожно поджаривались на стальной сковородке. Я наедалась до отвала, и матушка укоризненно говорила, что у них в монастыре Аглицких дев сиротки пели коляды, чтобы одолеть грех чревоугодия.
На нашей площади уже со дня святого Микулаша[27]бывали рождественские ярмарки. Чем больше старюсь, тем краше и цветистей видится мне этот образ, я и запах его слышу, и дух и шипение ацетиленовых ламп, и зазывные крики озябших торговцев и их пузатых жен.
Рождество позади. У нас в пограничье женщины просто теряют разум и как безумные носятся за покупками, словно от этого зависит счастье их детей. А может, и зависит. В Праге, говорят, зима бесснежная, а у нас — суметы, вот поутру опять выпал снег. На лавке возле изразцовой печи спит кошка. Рядом мерещится мне Ирена — она сидит и, конечно, гладит ее.
На дворе не меньше двадцати градусов мороза. Поднимается ветер. Даже сюда доносит он яростный лай. Что это? Беснуются собаки — то ли мороз им не по душе, то ли полнолуние дразнит их, наводит ужас. Надо сходить в дровяник за брикетами, запастись на ночь. Хорошо еще, что все под одной крышей. Старики отлично знали проделки здешней зимы.
Я выключила в телевизоре звук. Люблю смотреть на молчаливые танцующие тени. Я, конечно, могла бы еще помнить немой кинематограф, когда фильмы сопровождались игрой на рояле. Но в нашем доме не принято было ходить в кино. Поэтому первый гротескный фильм тех времен я смотрела уже годы спустя, после войны, вместе с детьми. И тогда мы с мальчиками хохотали до упаду… Что делают сейчас Фран и Матеечек? Я достала вязание. Ручная работа нынче снова в чести. Моника заказала себе большой вязаный воротник. Видимо, ко дню рождения.
Мы ладим друг с другом, конечно, между нами сто шестьдесят километров, а иначе бы… Этот сложный рисунок на вечернюю блузу из золотой пряжи я списала и срисовала из берлинского журнала мод. Пани Вовсова-старшая нашла на чердаке полные комплекты за 1882, 1895 и 1914 годы. Когда стелили новую крышу, журналы хотели выбросить, а потом как-то забыли про них. Золотую пряжу привезла откуда-то из-за границы Эма. Для маленькой Иренки. То-то Моника будет глаза таращить, да и Фран тоже.
Ровно год назад я была в Праге. Написали, что Моника в больнице. Я ухаживала за детьми и Павлом. Он — копия отца, разве что без той веселости, какая была у отца в его годы. А уж скаредность привила ему Моника.
Боже правый, когда они заявились к нам в первый раз, Моника вела себя самым вызывающим образом. Оценила квартиру, обстановку. Тогда уже пошла мода на старинные вещи — вот она и решила обставить свои две комнаты мебелью, что досталась мне от Эмы. Я сделала вид, будто понимаю это просто как ее попытку пошутить. Только Павлу сказала потом, что я думаю по этому поводу. Он изобразил удивление. Заявил, что я попусту все усложняю. Что тут особенного, если Моника и сказала, что «шуфаньер» (то есть шифоньер) не смотрится рядом с «гарнитурой» (то есть с гостиной) и что вообще тут все «не на уровне и кипятиться мне нечего». Теперь ведь здесь будут жить они — вот и все дела. Удивительно ловко был использован момент внезапности.
На другой день я шла с работы пешком. Стояла обычная противная пражская зима — пронизывающее месиво грязи, снега и человеческого брюзжания. У Староместской площади — Фран называет ее «Старомак» — я встретила Ирену. Мы зашли в кондитерскую, где нам подали по невинной чашке