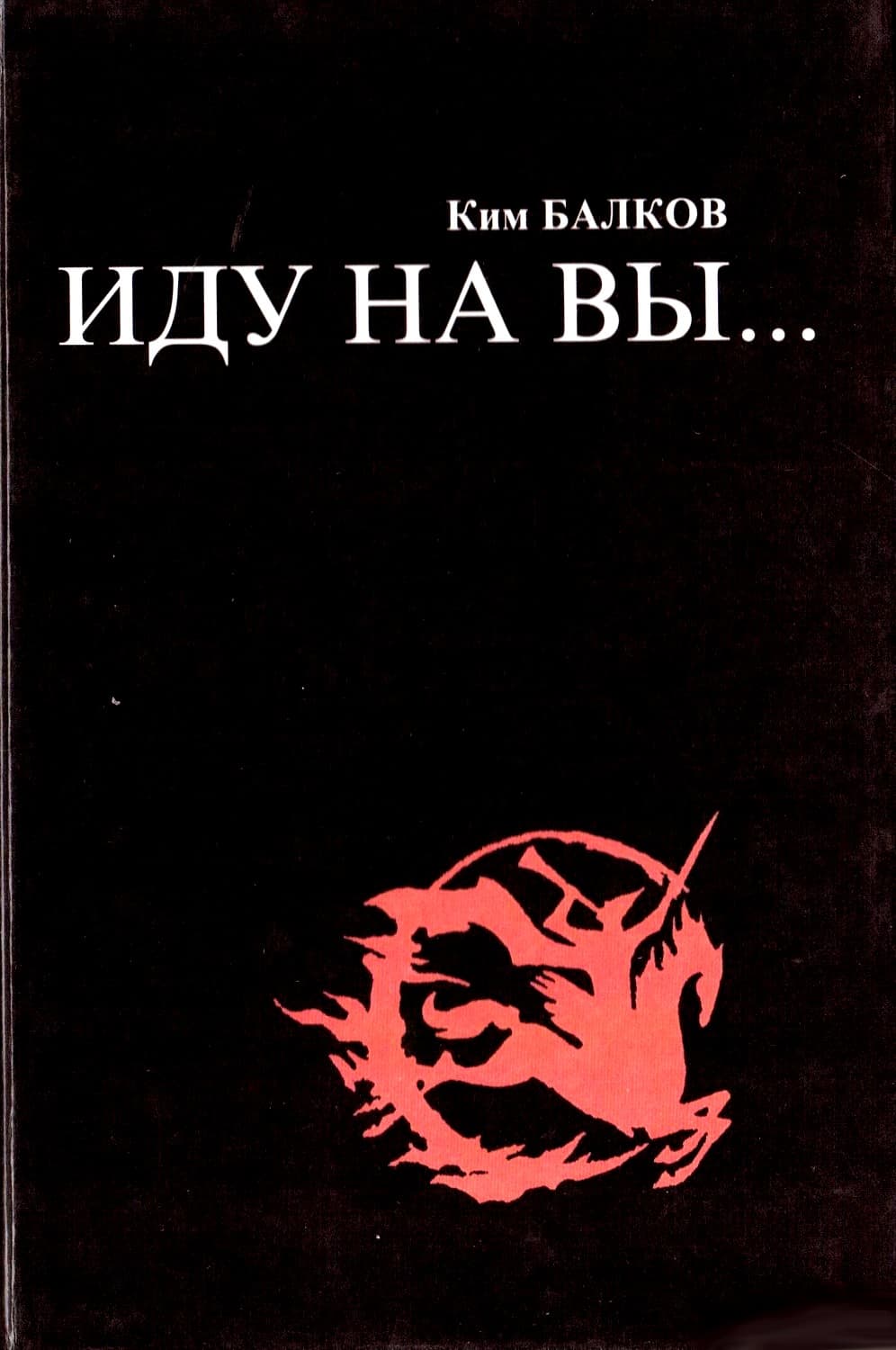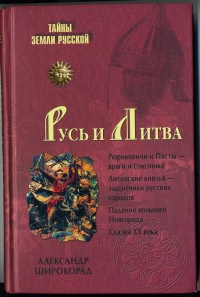долго не отпускал… Правду сказать, он по сию пору живет не только тем, что окружает, но еще и тем, что рождается на сердце и манит, влечет неустанно. Иной раз он не умеет противостоять этому почти неземному влечению и, к удивлению бояр и к досаде Большого воеводы, как бы отстраняется от них и едва ли слышит, о чем они говорят.
А отмель ту с недавних пор назвали Перуновой. По слухам, поверженный Бог, подталкиваемый волнами, как бы даже сочувствующими ему в его несчастье, приткнулся к отмели в надежде, что люди еще не забыли про добро, которое вершилось им во благо русских родов, и помогут ему. Но надежда оказалась призрачной, как и тот свет, что серебряно блеснул в каменно неподвижных глазах его. И тут Перуна встретили великокняжьи отроки и оттолкнули от берега. С тех пор никто не видел его, принят ли был в прохладное лоно Днепром-батюшкой, скрылся ли в дальнем море?.. Владимиру не нравилось, что отмель назвали именем славянского Бога. Он уже не только сердцем, но и умом понял, что всему свое время, и происходящее на Руси есть от всевеликого Блага рожденное действо. И, если до сих пор кто-то не осознал этого и противится новине, еще не значит, что можно повернуть время и заставить течь вспять.
На отмели Владимир встретил русоголового, в худом побитом дранье, мальчонку, стоял тот, забредя по колено в воду, и плакал…
— Ты чего? — спросил Владимир, сойдя с коня. Мальчонка от неожиданного для него, как бы с неба упавшего вопроса, покачнулся, а потом посмотрел на Владимира уже сухими глазами и обронил несвычно с его малолетством жестко и холодно:
— Ты кто?
— Князь, — вдруг заволновавшись и не понимая причины этого, досадуя и хмурясь, сказал Владимир. — Ты что тут делаешь?
— Жду, — ответил мальчонка.
— Ждешь? — удивился Владимир. — Кого?..
— Тут в последний раз видели Перуна. А вдруг он подымется со дна реки и я встречу его?.. Чего ему долго гостить у Днепра-батюшки, когда окрест столько беды?
— Да у тебя-то что за беда? Малец еще… — неуверенно сказал Владимир. — Садись-ка лучше на коня да поедем на великокняжий двор, я справлю тебе новый кафтан и приставлю к учебе, и будешь ты в одном ряду с боярскими детьми.
— Так ты?.. — враз побледнев, чуть слышно прошептал мальчонка и вдруг бросился в реку и, высоко выталкиваясь из воды, поплыл к ближнему, зелено поблескивающему островку.
Владимир видел, как мальчонка выбрался на обильно поросший толстым ивняком берег и побежал, затравленно, будто загнанный зверек, озираясь и что-то выкрикивая. Вздохнул и, сев на коня, отъехал…
Не от этой ли нечаянной встречи с мальчонкой сделалось ему грустно? Но ведь все, что он вершит на Руси, он вершит не для удовлетворения собственной страсти, а во имя Божье. Тогда отчего не угаснет в людях непонимание его душевной напряги?
Не тут ли Могута черпает силы в борьбе с ним, неутомимо подтягивая под свой стяг новые и новые роды? Может, правы Добрыня и церковные служители, когда говорят, что нужно твердой рукой покончить со смутой, разъедающей в душах? Так что же, меч впереди слова? Всякий раз, отряжая дружину противу смутьянных племен, Владимир ощущал горечь и недоумение. Но и поверстать по-другому, поменять тут что-то не мог. В конце концов, у него возникло чувство, что Руси надобно пройти и через это, чтобы утвердилась Христова вера. Вроде бы можно было уже и не терзать себя, но это оказалось Владимиру недоступно. Нет, у него не возникало сомнения в своей правоте, он как-то сразу, распахнуто душой, в согласии с тем, что прежде жило в ней, принял новину, как предначертанное судьбой, противу которой бессильно и само время. Он знал, отталкиваясь от сущего не только в нем самом, что вера в Господа будет крепнуть в Летах, хотя бы Русь опять вверглась в горестное унижение, как было не так уж давно, когда по русским прямоезжим дорогам хаживали конные сотни хазарских владык, собирая дань с каждого дыма. Но Русь пройдет и через это и расправит плечи, и укрепит свой дух во Христе. Странно, что Могута, воин высокого разума и твердости, не видит этого. Владимир не однажды подавал ему весть, ища с ним встречи, но тот противился его желанию. Жаль!
Как-то Владимир поехал к Видбору, уже принявшему Заповеди Христа и с какой-то нечеловеческой страстью, точно бы смертно истосковавшись по Божьему Слову, следовавшему им, и долго сидел в его келье-пещере, пропахшей древесной гнилью.
— Велико число родов на Руси, — говорил старец. — И в каждом роду если не свои Боги, то свое толкование их. Всяк из волхвов мнит себя более других приблизившимся к истине. Но что есть истина, как не свет Божий?.. В былое время и я тщился отыскать истину среди людей, и было мое старание упорно и зло, изнуряюще дух мой, пока однажды не вострепетало во мне и не восстала душа из мрака. И я узрил лик Христов, и сказал Господь: се есть путь твой, и ведет он к успокоению сердечных позывов, рожденных неизбывностью желаний. К смирению. И понял я, что есть человек?.. Малость самая, но и то благо, что и она надобна сущему.
Старец долго молчал, оборотив ко князю худое, как бы даже изможденное, но удивительно просветленное лицо, и продолжал:
— Всему свое время, и Божий свет изливается из человеков, лишь имеющих душу, в моменты высшего прозрения. В другую пору там подвержено страстям и бореньям, и нету меж них одоления. Ныне правит одна страсть, завтра другая…
— Что же делать? — спросил Владимир.
— Нету тебе советующего. Следуй тому, что в душе, внимай ей, ибо ты избран Господом, а значит, принадлежишь не только себе или какому-то племени, но всем сразу, и земле, и Небу. Ты есть глас Божий.
Удивительно было слышать эти слова, стронулось в душе у Владимира, и робость накатила. Но и то хорошо, что она не придавливала, была мягкой, светящейся. Радовало, что про отмеченное в его судьбе, знает не только он один. Но и от Видбора не получил Владимир ответа, как быть дальше, чтоб исчезла вражда меж людьми, чтоб все они потянулись к Господу, прогнав из души смутное. Но втайне он и не ждал ответа от старого мудреца. Верил, что сделается, как отпущено свыше, и не надо никого ни к чему подталкивать, уповая на милосердие Божье. Ибо сказано, что Бог есть Любовь. И никто и ничто не в силах противиться ей. О, если бы