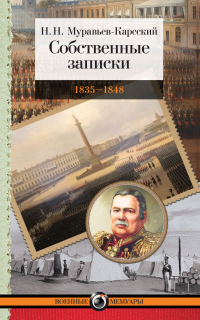– Как же, – сказал государь, – к ним ходят священники. Ты не видел здесь арестантских рот?
– Видел их, ваше величество, в Кронштадте, но видел только устройство их в казармах, где их хорошо и чисто содержат.
– Нравственность людей, – продолжал я, – единственно зависит от начальников, коим они поручены. Они часто бывают невнимательны и не обходятся с должным попечением с молодыми людьми, которые требуют весьма внимательного обхождения: они попадаются в проступки, не зная вины своей, их отдают под суд, и тем навсегда они делаются порочными. Я сам командовал дивизией, имел много беглых и, дабы дознать причину сего, обходил гауптвахты и находил молодых рекрут, содержащихся с определения в службу под арестом и следствием, в рубище, за упуск арестантов. Могли ли они знать, куда их на часы ставят и препятствовать сему? Они не понимали и вины своей, и один молодой человек на спрос мой: зачем содержится? отвечал, что его взяли в деревне на службу царскую; он полагал, что должен был находиться в таком положении и едва знал понаслышке о том, что вина его состояла в упуске арестантов.
– Какое невнимание! – воскликнул государь.
– Но вот причина зла сего, – продолжал я, – и я достиг средств к исправлению оного. Я осмотрел все роты почастно и, заметив, что гренадеры хвалились тем, что не имели беглых, я прикомандировал к ним из прочих рот самых порочных людей на исправление; средство сие удалось, и побеги были как рукой сняты.
– Это средство хорошее, – отвечал государь, – и я сам употребил оное у Скобелева, отдав ему однажды триста человек арестантов, и каких! Таких, что несколько дней после того один из них зарезал жидовку, чтобы ограбить дом ее; но люди сии остались служить.
– То же самое в другом виде, – продолжал я, – происходит и с молодыми офицерами, из корпусов выпущенными. Я был во всех корпусах и любовался сей прекрасной молодежью. Многие же из них гибнут с прибытием в армию, потому что к ним невнимательны; они развращаются при всех хороших склонностях своих, предаются унынию и пропадают.
– Справедливо, что с ними надобно бережно обходиться на первых порах; прошу тебя обратить и на сие особенное внимание твое. Корпуса эти со временем наполнят армию славными офицерами. Я их люблю как детей, как ближних своих; внушай сие всем начальникам. И они меня так любят, что однажды я где-то в Москве ехал и остановился; случился тут один молодой офицер; я спросил его: кто он? В ответ бросился он ко мне на шею и сказал: я ваш из кадетского корпуса.
– Вы их хорошо помните, ваше величество; вы вспомнили и то, что прапорщик Ковалев, оставленный мною в Царьграде для обучения турок, из кадетского корпуса.
– Как же не помнить сего, брат? Каков тебе показался молебен и присяга наследника? – спросил государь. – Видел ли ты сие хорошо?
– Я был в толпе и не мог видеть первой присяги в церкви; но хорошо видел военную присягу.
– И та хороша была!
– Прекрасна, ваше величество; мы все были тронуты; но еще бы лучше было торжество сие, если б оно свершилось в присутствии целого народа, трехсот тысяч жителей!
Государь не отвечал, а кивнул головой, как будто были причины, по коим он не мог сделать сего.
– Но ты читал молебен?
– Не достал еще его.
– Непременно достань и прочти. Ну, ты меня понял, – сказал государь, вставая. – Я уверен в твоем усердии и ты успеешь; вспомни, что вся армия лежит почти на тебе. Прощай, будь счастлив; поезжай! – и, прибавив к сему все, что можно было лестного, обнял меня и отпустил. Но я остановил государя и объяснил ему, как я мало времени оставался с отцом и поспешил прибыть сюда, не простившись с ним.
– Поезжай к отцу, милый, – сказал он, – и оставайся у него, сколько тебе угодно. Прощай, милый!
В течение разговора сего, продолжавшегося около часа, государь мне еще сказал, что в Киеве ныне будет 13-я дивизия, хвалил очень начальника оной, генерала Чаодаева, и приказал заняться образованием оной.
Вышедши от государя, я хотел откланяться в тот же день императрице; но она приказала мне прибыть на другой день в 12 часов утра. В тот же еще день, однако же, я съездил к военному министру и объявил ему о разрешении, данном мне государем, провести, сколько хочу времени у отца (он же едва на пять дней соглашался и не смел или не хотел докладывать о сем государю).
– Да, – сказал он, – государь сперва было посердился на вас, когда вы отказались от должности генерал-квартирмейстера; но теперь он опять стал к вам милостив.
26-го я представился в 12 часов императрице, которая со мной разговаривала близ получаса. Она поручила мне сказать Левашову, что она не могла согласиться на представление его на отчисление в пользу Киевского заведения для воспитания девиц 19 000 рублей, коими дворянство жертвовало в пользу такового же заведения, в Полтаве учреждающегося; но что государь нашел средство заменить сию сумму другой, взятой от другого заведения или Воспитательного дома. Она говорила о направлении, которое должно дать девицам польских губерний в предположенном заведении; говорила о митрополитах Евгении и Филарете[230], называя их самыми образованными из числа наших духовных; но не находила, чтоб первый сохранял приличное сану своему отдаление от мирских обычаев; говорила об окрестностях Киева, о вновь предположенном дворце, о саде, и, наконец, спросила меня о брате, ездившем в Иерусалим. Я сказал, что он здесь служит в Синоде.
– Правда ли, – спросила она, – что он хочет сделаться монахом?
– К чему же? Он так молод, хорош собой, ему не надобно быть монахом, и я ему всегда отсоветываю сие; по крайней мере, он должен подождать несколько лет; склонности его, может быть, поведут к помышлениям другого рода, и как бы он был несчастлив, если б, вступив прежде времени в сие звание, он должен был всю жизнь свою раскаиваться в поступке своем.
– Да, – отвечала императрица, – не должно никогда посвящать себя в сие звание без сильного желания.
После сего она стала говорить о Фотие и не хвалила его, находя его лицемерным. Она находила также странным, что девица графиня Орлова управляла целым мужским монастырем.
– И наоборот, – сказал я.
– Совершенно.
При сем случае я превознес добродетели и благотворительность графини, которая не только старалась всем делать добро, но даже изъявляла признательность свою тем лицам, которые ей указывали к тому средства.
– Справедливо, et се serait ingratitude de ma part de penser autrement sur le compte de la comtesse Orlow[231].