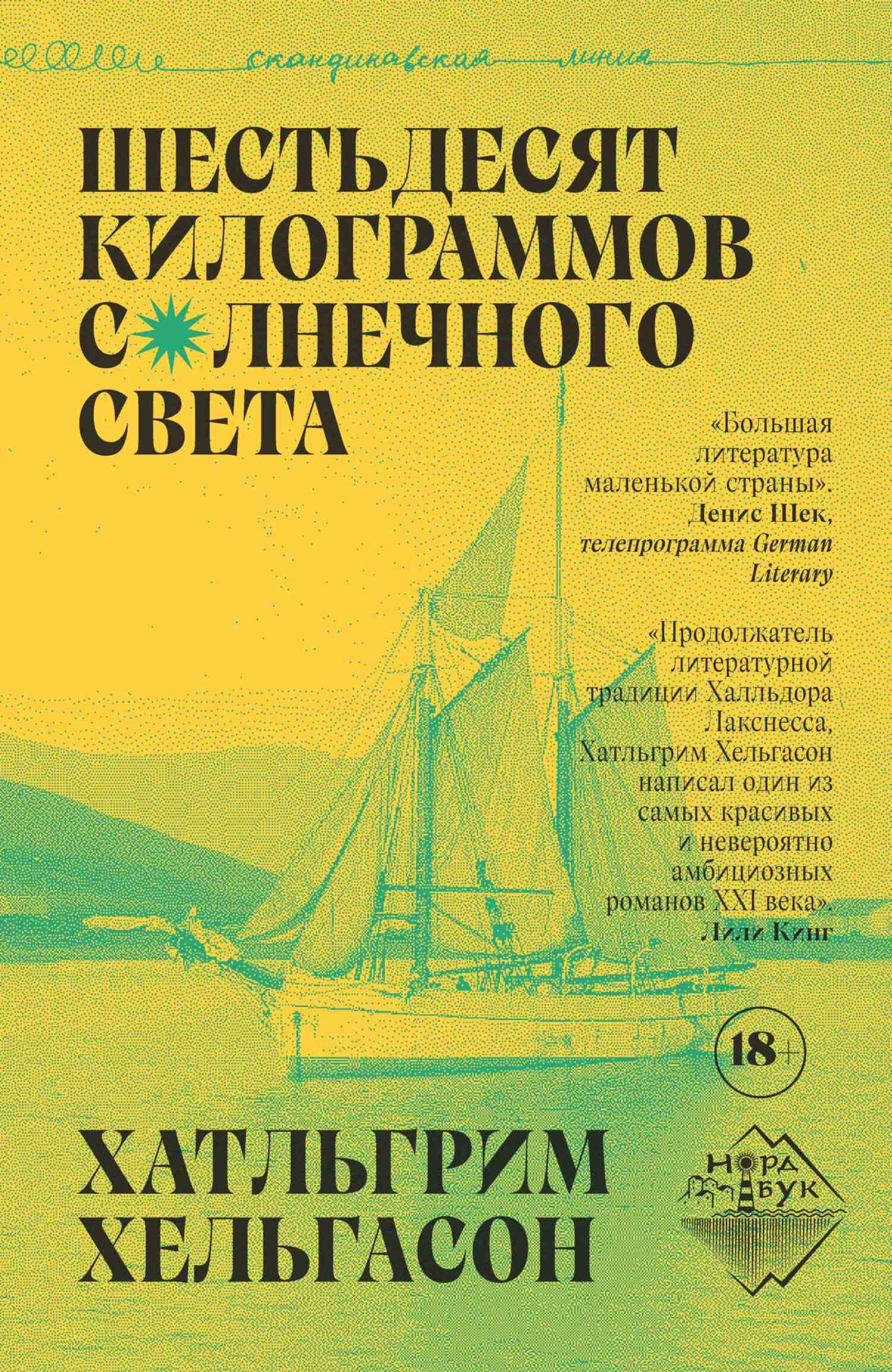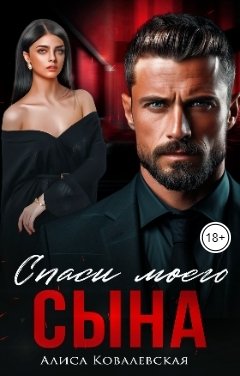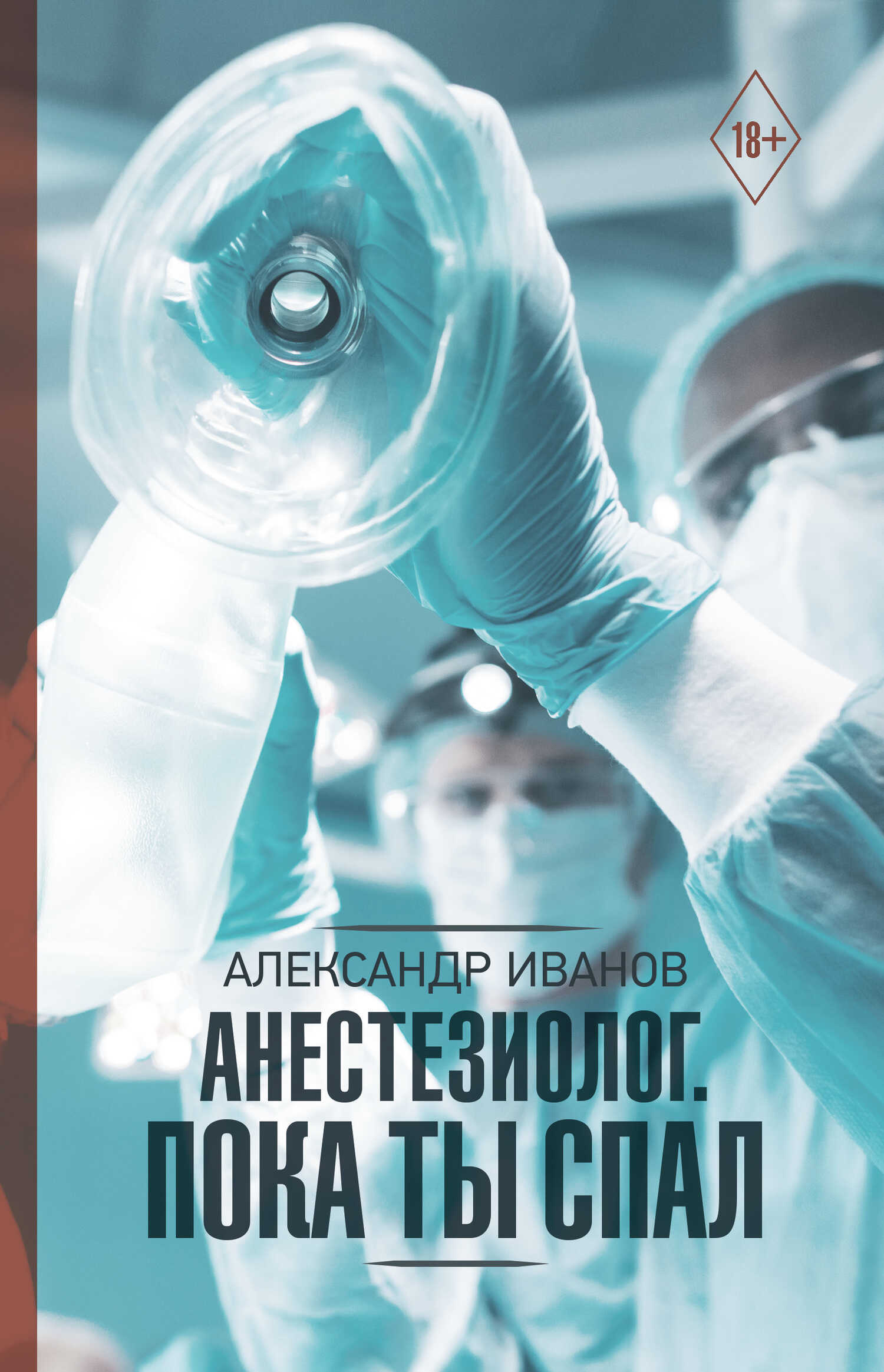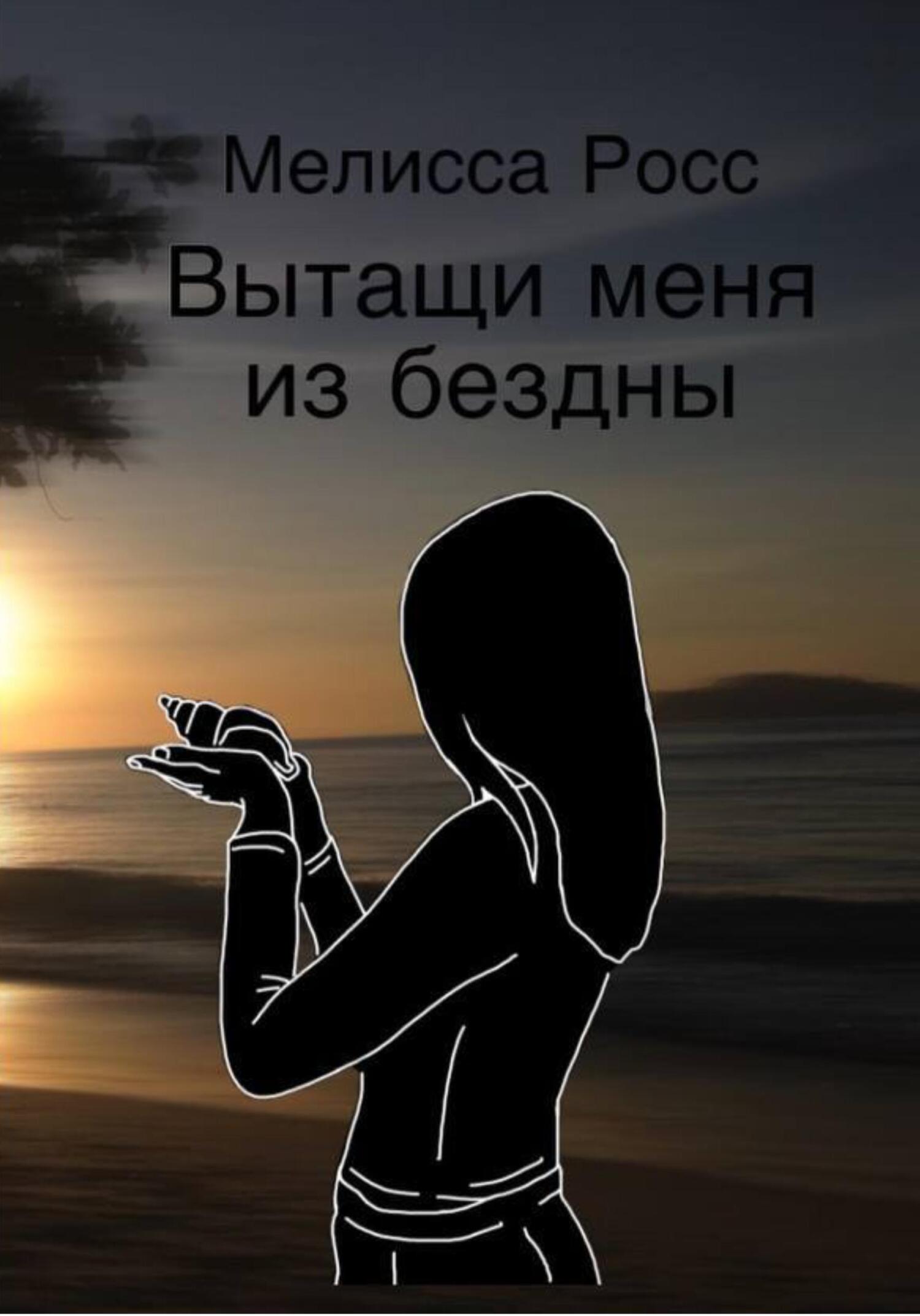его слова. Разговаривали мы по-исландски, хотя к нам подсела невеста Кристьяуна, шведка Лена. Она была красивая, но на мой вкус какая-то слишком гагаристая: шея чересчур длинная, нос птичий, конечности тонкие. Честно говоря, я никак не мог отогнать от себя мысль, что у Лены Биллен телосложение какое-то, прямо сказать, буржуазное. Она даже одеваться по-пролетарски не умела: на стриженной под мальчишку голове – слишком парижистая шляпа, а с шеи свисают длинные жемчужные нити – я знал, что Стьяуни они раздражают. Очевидно, они когда-нибудь затянутся на ее шее. Я по временам улыбался шведской гагаре и рассматривал двухлетнюю девочку, которую она держала на руках. Крепко сложенная темноволосая девчушка. Ее звали Нина, и мне иногда казалось, что Кристьяун – ее отец, хотя мы это и не обсуждали. Наши умы занимали другие, более важные, вещи. За соседними столиками сидели партийцы в выходных костюмах – с такими удивительно железными лицами в этой царской обстановке – и молчаливые женщины, как и Лена, смотрящие в окно, на ноябрьски-серую Пушкинскую площадь, которую сейчас рьяно выбеливал первый снег. Сказав последние слова, Кристьяун быстро осмотрелся по сторонам. «Сталин, Молотов, Берия». Да, он произнес это с утвердительной интонацией, без тени иронии. Он приезжал в Москву уже в третий раз, сейчас прожил там десять месяцев и как следует насобачился быть всегда начеку. Одно неосторожно сказанное слово могло перечеркнуть двадцать лет работы. Я все еще пытался разобраться в этом.
– Кристьяун! У тебя есть какие-нибудь планы на вечер? – по-шведски спросила Лена.
– Да, с нами будет ужинать Эйнар. В нашей комнате.
Маленькая Нина уже давно спустилась на пол, а теперь захотела встать на стул между нами и Леной. Мать помогла ей, а потом громко и четко произнесла: «Встали, Нина!» – по-шведски, трижды, пока Кристьяун не велел ей замолчать, после чего боязливо осмотрелся вокруг. «Встали, Нина!» звучало опасным образом похоже на «Сталина».
– Здесь крайне важно уметь молчать. Только никому не говори! – однажды сказал он мне с серьезным лицом. Былая веселость немного сошла с него. Целое лето тому назад, в Сиглюфьёрде, он был самым юморным человеком Северной Исландии, и каждый вечер в отеле «Кваннэйри» перевоплощался в своего любимого персонажа – Буржуя Буржуйсона. Его лицо за секунду превращалось в жирную рожу спекулянта селедкой, который разговаривал как пожилой даун после трех стаканов: «Ребята, ну это, короче, не надо все время заниматься этой борьбой, понимаешь. Ведь единственная разница между нами – в том, что я толстый, а вы худые. А в остальном у нас с вами цель одна: способствовать обогащению Акционерного общества “Буржуй Буржуйсон”».
Однажды вечером у стойки бара показался знаменитый актер. Стьяуни: «Здесь вы видите нашего выдающегося актера. Когда он играет на сцене, то всегда выдается всем телом вперед и попадает в объектив!» Мы все засмеялись, а актер обернулся, а я пожалел его, а он подошел к нашему столику. «Ну вот, видите! Он и здесь подался вперед!» Я жалел всякого, кто собирался спорить со Стьяуни Красным. Он всех видел насквозь. И лицо у него всегда было таким красным. Но здесь, в Москве, он стал совсем другим.
Аксель Лоренс. Комната № 247, гостиница «Люкс», улица Горького, 10.
Даже я должен был называть его Акселем, даже если мы сидели одни в парке в тот последний летний вечер, когда я только что прибыл и только что рассказал ему исландские новости: все о столкновениях на причале на полуострове и разногласиях в партии. А завершил я одной из знаменитейших сентенций Буржуя Буржуйсона: «Что одному нажива – то всем хлеб». Он в ответ лишь помолчал, уставясь перед собой, а после этого сказал: «Да, приятно будет вернуться домой».
Мы сидели в одном парке на Садовом кольце в Москве осенью тридцать седьмого. Двое солдат правды в этой словесной войне, которая тогда велась в мире везде, двое по-вечернему взмокших исландцев, вознамерившихся поднять простой народ своей страны с помоста для разделки сельди в более возвышенные сферы, две запроданные души под памятником Гоголю. Но как можно было быть кем-нибудь другим, а не коммунистом, в тридцатые годы? В этом «Побоище при Гуттоу»[116] воздержавшихся не было. Лишь конченые подлецы могли безучастно стоять на своих балконах и смотреть, как внизу рабочий копает канаву для канализации – выгребает их дерьмо за одну крону в час. Никто не вышел бы равнодушным из жилища рейкьявикских безработных в годы кризиса – жилища без туалета и без душа, где все стекла были покрыты инеем, а из еды была одна лишь овсянка, даже на обед, и ее запах пропитывал пальто так, что разносился на всю улицу Лёйгавег. Быть коммунистом означало быть человеком.
И мы поехали на восток. В идеальное государство. В паломничество. Уверовавшие отправились в рай, чтоб их там ввели в курс дела. Как могли мы помыслить, что на самом деле оказались в аду?
Семь месяцев я жил в самой крупной в истории человечества империи тьмы – а вернулся с готовой рукописью целого евангелия об этой «воскресной школе, простершейся от Балтики до самого Тихого океана», в которой происходит величайшая в истории воспитательная работа и где директор «посредством марксизма выводит миллионы и миллионы людей из мрака глупости и отчаяния». Но на самом деле это был крупнейший спектакль в истории, спектакль, который обманывал не только зрителей, но и всех актеров, сценографов, осветителей, суфлеров, нашептывавших правильный текст. И даже сами главные герои присягали автору на верность в своих заключительных монологах, которые при всем том были чистейшим вымыслом, свитым из слепого помешательства отчаяния; они признавали за собой несуществующую вину, а потом их расстреливали под гром аплодисментов. А я сидел в зале. Десять дней я сидел и смотрел судебный процесс над Бухариным со товарищи, и мне даже в голову не приходило, что все это спектакль. Дьявольский паук сплел такую искусную сеть, что любая муха, угодившая в нее, сама продолжала плести ту же сеть – которая в конце концов раскинулась на пол земного шара. В центре паутины сидел Коба: один – в той пирамиде, на строительство которой затратил всю свою жизнь, задействовал половину человечества на воздвижении этого мавзолея самому себе – великому фараону в кожаных сапогах, – памятника на следующее тысячелетие.
Мы участвовали в этом. Мы клали свои слова на чашу весов. Мы двигали эти обтесанные камни. Мы полжизни потратили на постройку той пирамиды, которая называлась «коммунизм», во славу человека, который коммунистом никогда не был. Который полжизни