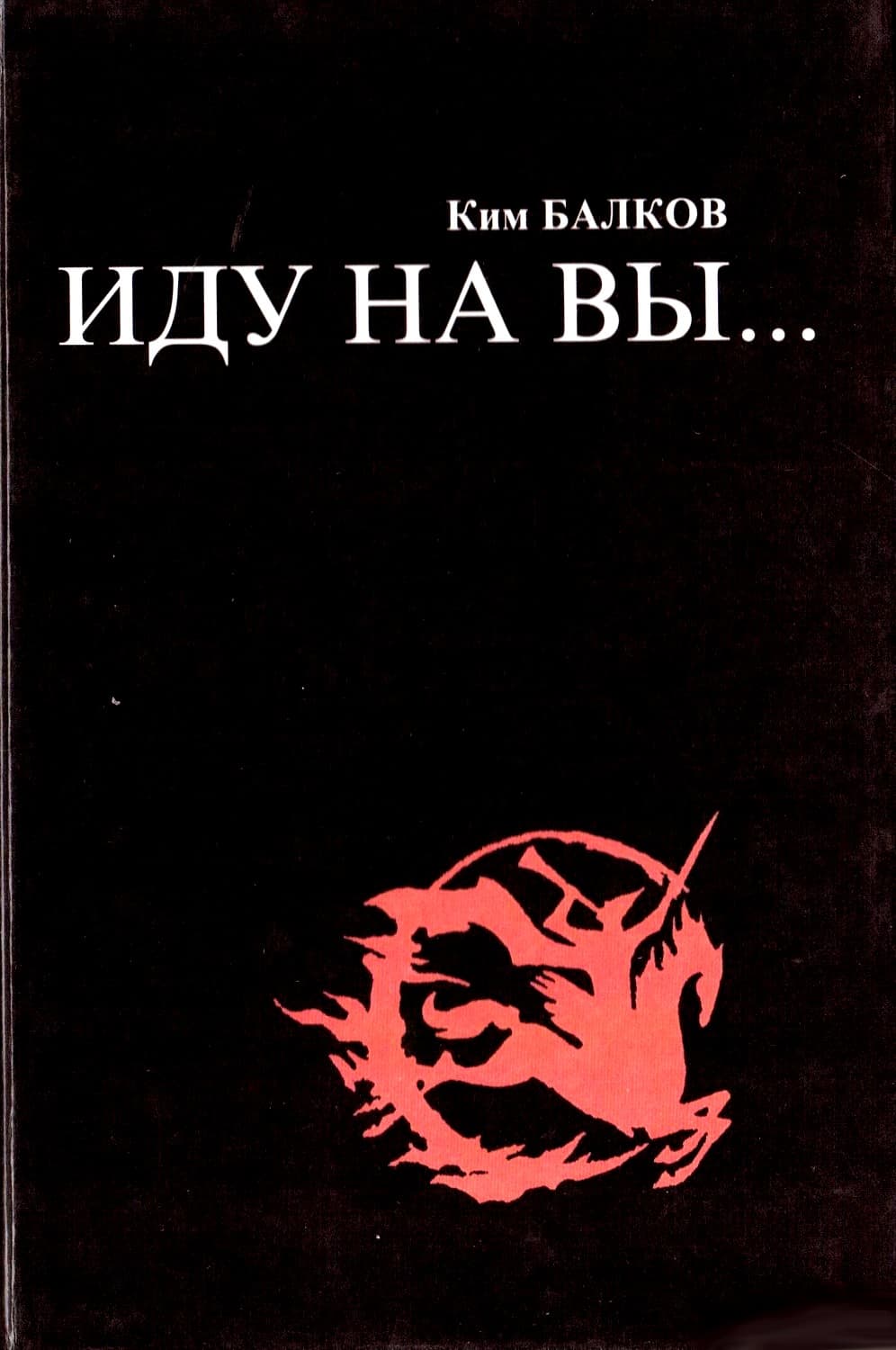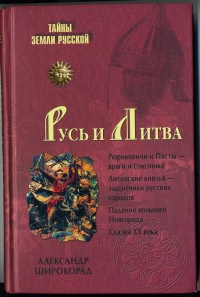жизни не сравнимого общения с людьми. Не только в русских племенах слушали старого певца. Будимир хаживал и по чужеземью. Ему казалось, что и там нужно его слово, которое не подчиняемо ничему в ближнем мире, но всесветно и ярко, от светлой днепровской дали, от дедов и прадедов. Он заходил в печенежские степные кочевья и, коль скоро ощущал там враждебную холодность, брал в руки гусли и пел… И отодвигалась холодность, растоплялась, печенеги внимали его сказанию, а в нем слово становилось едва ли не божественным знаком, в нем всяк находил близкое его сердцу.
О, это несравненное чувство одоления людского непонимания! Сколько бы раз Будимир не сталкивался с ним, оно всегда вызывало в нем теплое приятие страждущего, ищущего покоя.
— О, благостное, привнесенное в мое сердце Волею Рода и да пребудет оно во мне до последнего дня моего! И да исполнится по сему!
Забрел однажды Будимир и в ныне завядшие, подобно речной траве, хозарские городища, стоптанные конями Великого Святослава, и увиденное там подействовало на него гнетуще, и он сказал:
— Воистину наказуема непомерная гордость!
И нечто, зависшее близ Хвалынского моря над худыми солеными землями, как бы откликнувшись на слова Будимира, отвечало горестно:
— Так… так… так…
И еще сказал старый певец:
— Умирают племена и народы, и самый дух их не бессмертен, коль скоро не оборотится в слово и не передастся грядущему.
Будимир не долго задержался в тех землях, хотя и был обласкан людьми, в сердцах которых ныне стыло от неумения отыскать в себе от Божьего света, что помогло бы снять проклятье за лихие деяния прадедов их.
И снова он шел с Любавой по русским землям, заходил в просторные и светлые, под низкими потолочинами, домы, пропахшие отеческим духом, и жадно вдыхал его, как если бы боялся не успеть, как если бы и тут ощущалось неустояние. И он не сразу понял, отчего это, отчего в нем растет тревога, пока не осознал, что и тут раскололось и уж не сразу отыщешь укрепу. Правду сказать, он и раньше примечал тревожащее, но жила надежда, что скоро наладится и братнее, от сердец, отринет разделившее в племенах, и окунутся они в тишь и благодать. Только и то знаемо им, что и в давние леты иной раз наблюдалось в сродных племенах порушье устоев, освященных древностью рода, и помутнялось в людях, и некто почитал себя более приближенным к истине, чем тот, кто осмеливался утверждать обратное. И тогда нередко возносился над головой свистяще и яро тяжелый меч, и уж ему доверялось решать, кто прав?.. Худо это. И противно отмеченному в древних Ведах. Но и мудрые волхвы отступали перед дурной силой и прятались в глубоких пещерах, унося с собою племенные Веды. И, лишь когда утихала вражда, выходили оттуда, и снова звучало мудрое слово. Странное отмечалось в этом отхождении от земного мира и пребывании в пространстве времени, где властвовала тишина, необходимая для утверждения мудрости. Слово точно бы тускнело, когда оказывалось среди враждующих племен и никло подобно засохшей траве, и, если снова не отыскивало благостную тишину, мало-помалу утрачивало первоначальное звучание, и уж никто не мог разгадать его тайный, от Богов, смысл.
Было у Будимира от деревлянских Вед нечто старинной прописью писанное, от деда перешло к нему, говорил старый воин, тогда еще юному внуку, чтоб сохранял он дощечки, в них от Судьбы и от прародителя русских племен… И творил Будимир по завещанному: если ладно было на Руси и от небесного света в сердцах возжигалось, спускался он в темную пещеру и при горящей лучине читал пропись на святых дощечках, обученный сему отцом, и минувшее медленно и верно открывалось перед ним и во взоре возгоралось, виделось удивительное в раздвинувшемся времени, и нежное слово рождалось в душе, уже как бы и не соединенное с этой прописью, ему принадлежащее, но еще и Небу.
Поднявшись на земную поверхность и вдыхая лесной воздух, Будимир сохранял в душе звучание этого слова, оно казалось трепетным и скоропреходящим, и если бы не оказывалось под рукой гуслей, то и растворилось бы, стало частью неохватного мира. Но гусли помогали, вдруг да и отыскивалась мелодия, способная сохранить слово, утвердить в людях… И, когда происходило так, когда слово обретало земную весомость, укрепившись в мелодии, Будимир спешил к людям и пел… И по тому, как круг слушал его, он понимал, что рожденное в его душе слово вошло в жизнь, далекую от пещерного уединения и от благодати, что царствует в вечной тишине, и уже не принадлежит ему, но чему-то находящемуся между светом и тьмой. Он видел в человеке не его внешнюю сущность, холодноватую и жесткую, но ту, что обреталась в душе, ее нельзя определить даже словом, она не имеет привычной формы, являясь некой абстрактностью, соединяющей человека с тем, что было в прежние леты и что станется во днях грядущих. Будимир полагал, что человек не есть нечто само по себе существующее в мире, в который он пришел по воле Богов, но и то, что являл из себя, когда его не было на земле, а еще то, что ожидает его впереди, когда он поменяет форму. Старый сказитель свободно продвигался по времени, для него оно не имело границ, и он подолгу утопал в удивлении, коль скоро кто-то говорил, что он чего-то не помнит, не знает, ведь тогда он еще не родился… Впрочем, так случалось редко, в русских племенах существовало правило — прозревать себя во времени, которое есть поднявшееся от тела земли. Не потому ли пахарь, восходя на поле, кланялся на четыре стороны и, обращаясь к земле, восклицал:
— О, матушка, прими труд мой и пот, подыми всходы, и пусть в них будет и от твоей души!
Воистину земля есть мать, и мы дети ее, хотя бы уже превратившиеся в придорожную пыль. Но и в ней вдруг да и ощутится что-то от людского неурядья, смутное и горькое, как бы не нашедшее успокоения, и тогда вдохнувшему ее в себя тоже станет неспокойно. И пусть он не знает, откуда идет непокой, все ж не отторгнет, прислонит к сердцу, как слабый, сорванный с березы листок, и нечто от лет минувших распахнется перед ним и поманит, и он улыбнется грустно и скажет:
— Так… так… Я помню, помню…
Не однажды и Будимир улавливал исходящее от дальнего света, и тогда тихое ликование обозначалось в душе его, и он говорил Любаве:
— От света рожденное к свету и тянется.