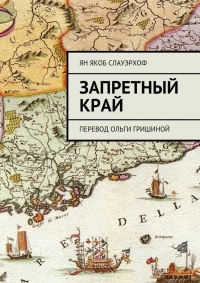— первое слово, которое приходит в голову, когда останавливаешься напротив этого смиренного, пожилого, но хорошо сохранившегося дома. Тотчас захочется поспешить внутрь, как мы спешим в укрытие от внезапного ливня. Его надежный вид не отталкивает грубостью и жесткостью, ведь в его конструкции все соразмерно. По-отцовски мужественная строгость в симметрии фасада, смягченная каким-то окутывающим его материнским приятным спокойствием, дающим защиту. Впечатляющий вид, но его никоим образом нельзя поставить в один ряд с тем нагромождением мрачных строений, похожих на замки, своды которых чаще всего внушают страх, что днем, что ночью, потому что мы представляем, как в них гнездятся вампиры. Еще больший ужас охватывает при виде нижних этажей и подвалов, кажущихся мрачными пыточными застенками для детоубийц, откуда в любой момент могут вырваться крики, вопли и мольбы о помощи. Нет, это простой дом, внушающий чувство защищенности. Спокойное, серьезное, но очень уютное убежище. Добрый сторож семейных дат, желаний, вины и раскаяния. Может быть, вот так, в темноте он выглядит немного усталым и каким-то озабоченным, придавленный крышей и испещренный саблевидными тенями деревьев. Но дом все равно источает меланхоличную одержимость, словно весь он изнутри трепещет от желания угодить и защитить. Ни малейшего сходства с теми ледяными, замаскированными зеленью статусными родовыми цитаделями, пугающими своей холодностью, как некие средоточия насильственной смерти, кровосмесительной ревности и оргий безумных оккультистов. В отличие от них, этот дом пронизан доверием и чистотой, как огромные соты матки для пчел-работниц. Да, он тоже огромен и просторен, но ничем не напоминает тот тип дерзко-высокомерных строений, что воздвигаются во все времена, как оплот собственнического триумфа. Понятно, что в таких дворцах суетности все должно быть громадным, богатым и чрезмерным, ибо должно служить пьедесталом, с которого его владелец может с превосходством направить взор вниз, и свое колоссальное наслаждение подпитать картиной, где обычное человеческое существо рядом с крепостными стенами будет чувствовать себя ничтожнее муравья. О, насколько этот дом отличается от любой такой бесчеловечной идеи! Именно его гуманные масштабы лучше всего говорят о каких-то давних, может быть, идеализированных временах его возникновения, когда люди считали чувство меры и вкус этической нормой. И сейчас, остановившись перед ним, чувствуешь, как он просто вас окликает, тепло и дружески. В этом его по-старинному изысканном облике, в сдержанном, струящемся из него тепле необходимо искать причины того, что даже самый неотесаный прохожий, встав перед ним, умолкает, а если уж и будет вынужден заговорить, то сделает это сдержанно, как бы стараясь не нарушить своим громким голосом равномерное дыхание, или не оскорбить нежный слух людей, находящихся за его стенами. И даже абсолютно невнимательный человек тут же по каким-то признакам понимает, что в таком доме может обитать только бархатно мягкая доброта, окутанная тишиной, как в коконе шелкопряда. Может быть, она пробивается изнутри, как уведомление, сквозь его огромные окна, кажущиеся широкой улыбкой на фасадном лице. Это не те, обычно укутанные плющом маленькие проемы, стеклянные панели которых грозным блеском предупреждают, что из-за них за вами наблюдает болезненно горящее око какой-нибудь нездоровой особы. Нет, это настоящие широкие окна, обрамленные изящно обработанным деревом, симметрично расположенные по всему фасаду, как будто они висят на стене в барочных гипсовых рамах. Глядя через них внутрь, нельзя не воображать, насколько удобными должны быть светлые просторные покои, наполненные удобной мебелью и изумительными картинами. Внезапно тебе покажется, что ты уже там, по ту сторону стен. Сидишь за прочным, массивным столом натурального цвета старого дерева. Перед тобой раскрыта книга под названием «Все обо всем», именно та, за которой ты годами безуспешно гонялся. Прислушиваешься к шороху добрых домашних ду́хов, вьющихся вокруг, тебе нравится благостная мягкость их прикосновений. Книгу листаешь медленно, в боязни их распугать. Затем на тебя внезапно пахнёт каким-то ароматом. Сначала ты его совсем не можешь распознать, хотя понимаешь, что он тебе близок и дорог, а потом, с каждым последующим вдохом, все яснее осознаешь, что это аромат материнских волос. Мама, позовешь, может, только про себя, мама, и голос твой постепенно стихает в некой потаенной боязни, что этот легкий запах исчезнет. В болезненном желании провести здесь, на этом самом месте всю свою жизнь, снова тихо позовешь ее: мама, мама…
Эта книга Тессы Рэндалл, «Стены из пепла» (Лондон, Рэндалл & Григгс, 1982), настигнет Дошена в одном небольшом канадском университете (Университет Ватерлоо), — а произойдет это спустя пять-шесть лет, — где он будет преподавать на кафедре славянской филологии сербский язык и сравнительное литературоведение. Он прочтет описание множество раз, с огромным волнением, оно выбьет его из колеи и всколыхнет многие дорогие и болезненные воспоминания. Ностальгия, которую он вначале побеждал исступленной перепиской, не отпустит его ни на миг за все время четырехлетнего пребывания, а в этой заметке он получит отличный материал для чтения. Читая, Дошен вспомнит, помимо прочего, и эту немного безумную прогулку посреди ночи вокруг огромного запертого дома, который тогда ему покажется каким-то далеким, прекрасным сном. Он будет изумляться литературному дару Тессы Рэндалл, которая смогла создать такой текст из краткой попытки совершить ночную прогулку сквозь рой несносных комаров, привлеченных светом фар, они просто лезли в глаза и загнали их назад в машину до того, как им удалось подробно осмотреть дом снаружи. Однако они будут туда приезжать и потом, много раз.
Молодой специалист по английской филологии, доктор in spe[4], Милан Дошен с радостью согласился с задачей ассистента: от имени Кафедры постоянно находиться под рукой у гостей из Англии, семейной пары Рэндалл, которые приехали изучать архивы и собирать материал для своих научных исследований и книг в качестве стипендиатов Британского Совета. Для этого дела трудно было бы подыскать более подходящего человека, чем Дошен, так как он, родом из приграничного села Баймока, достаточно хорошо знал и венгерский, который тоже требовался англичанам. Ему отчасти льстило, что выбрали именно его, хотя поначалу он порядком волновался, кроме того, все это выглядело весьма привлекательным, и он считал, что во многом будет для него полезным. Попрактикуется в устном переводе, так сказать, в терджиманском[5] ремесле, что он считал самым сложным, а потому и стоящим труда. Он будет слушать и постарается говорить на настоящем английском, с хорошим произношением, а не разговорно-туристском. У него появится возможность лучше узнать образованных, ученых людей, зарубежных коллег, и общаться с ними, что во время коротких студенческих поездок в Англию и другие страны ему не удавалось, за исключением нескольких болтливых летних знакомств, какие из памяти обычно уносит первой осенней бурей! И, в конце