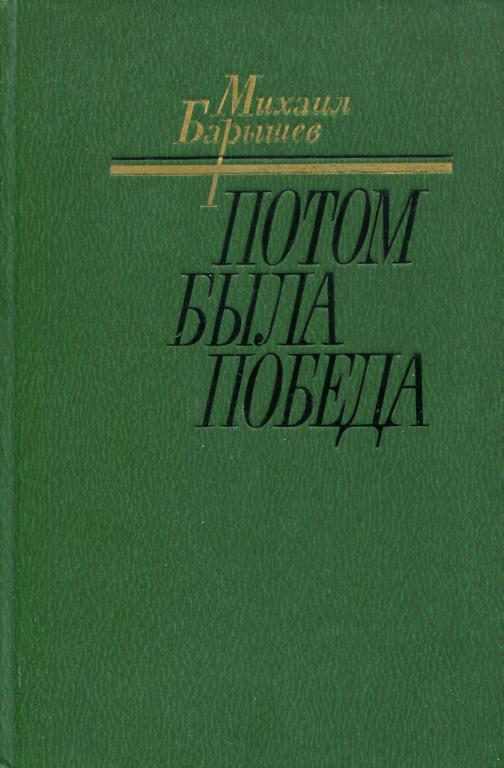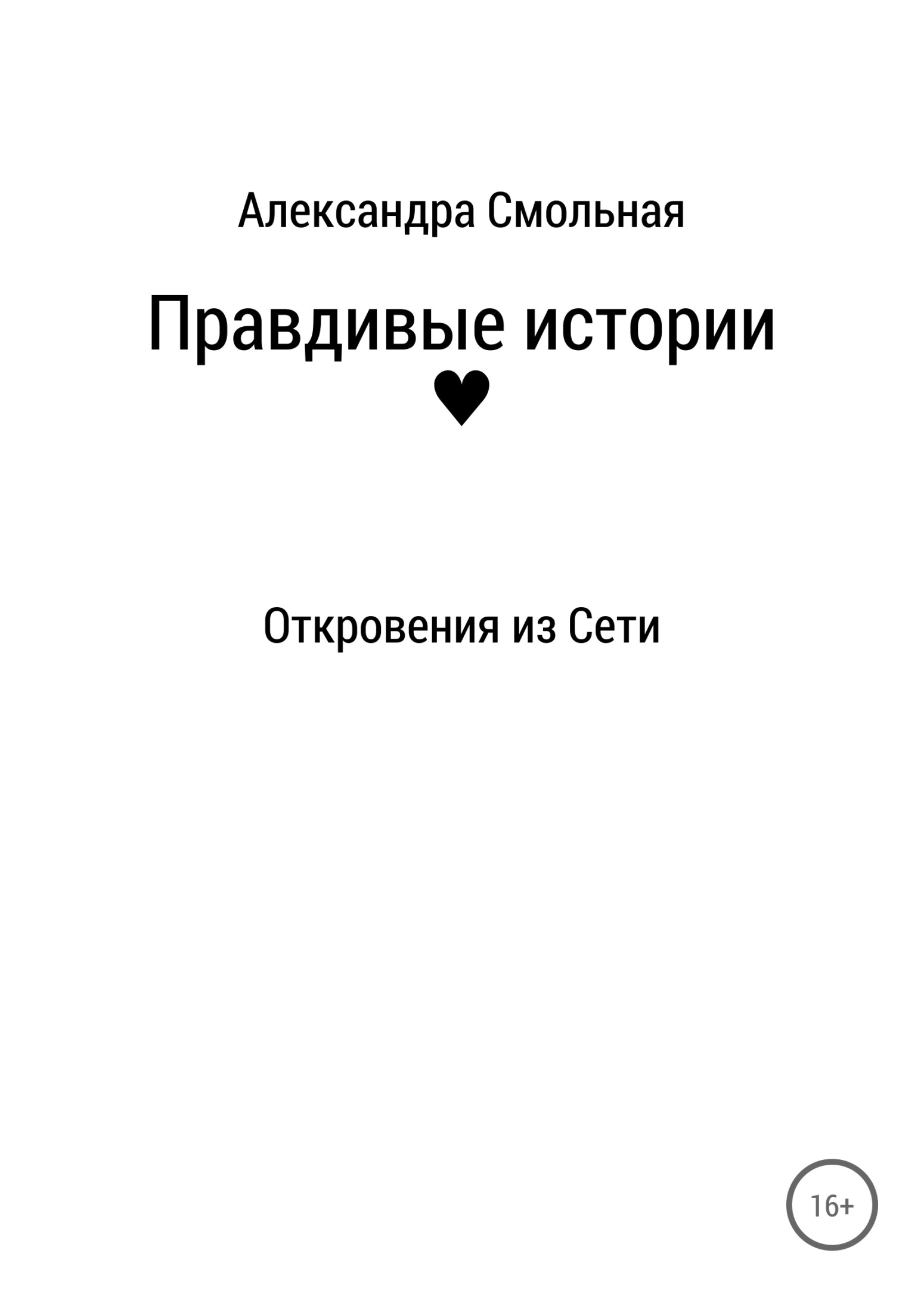и есть что, так какая-нибудь равнодушная ленивая связь, не больше — неопасное... Потому что любовь и страсть скрыть невозможно. Будь она — он не смог бы жить так, как живет сейчас. А как он живет сейчас? — задала себе вопрос Люся. А никак, — был удручающий ответ. Праздно. Душа его не задействована.
Может быть, это и есть разгадка?
Палатку понемногу начало трепать ветром, и Гошка озаботился:
— Плохи наши дела: сейчас озеро расходится. В шторм на нашей «казанке» нельзя.
— Смотри, старик, тебе лучше знать возможности своей посудины на этом водоеме, — пожал плечами Костя-мореход.
— Поедемте домой, братцы, а, пока не поздно, — встревожилась Алина.
Гошка выглянул наружу и сообщил:
— Уже поздно. Озеро уже болтает. Это здесь, между островами, еще тихо, а в открытое место выйдешь — пиши пропало. Будем жить здесь до штиля.
Он хохотнул и потер руки, прельстившись своим прогнозом. Наверное, ему казалось очень кстати устроить вынужденную ночевку для Кости с Алиной.
— Слава богу, спальные мешки у меня всегда в трюме, — похвастался он.
Все примолкли и слушали, как дождь долбит брезент. Каждый затаился и ждал, что будет. Они, наверно, не сходились в желаниях. Кому-то, может, хотелось, чтоб стихло, а кому-то, может, наоборот. Люся посмотрела на лица и не смогла определить, кому чего.
А мне, — спросила она себя, — мне чего? А если придет старость или болезнь? — подумала про себя и про Гошку, и ей стало страшно.
Гошка встретился с ее взглядом, ухмыльнулся и подмигнул: мол, все идет как надо и даже лучше, чем надо. И отвернулся. Ничего не заметил. Он не умел читать в ее глазах — навык лишний, когда существует речь. У них принято было плохое переносить в одиночку. «Не портить друг другу настроение». Настроение ценилось.
Перестало барабанить, и от тишины зазвенело в ушах. Только ветер широкими мазками мел крышу палатки.
Они выбрались наружу. Мокрая трава брызгалась холодным, кожа ежилась от капель. Оделись. Какие-то неуютные сумерки навалились на землю, хотя до вечера было еще далеко. Низко летели, рвались клочья туч, небо не просматривалось. Озеро черное шумело.
Ну что ж, ночевать так ночевать. Они разбрелись по острову, чтобы натащить дров для костра. Люся пошла вслед за Гошей. Какой-то неясный вопрос был у нее к нему, какая-то тоска, требовавшая немедленного утешения — чтобы он разубедил ее и рассеял сомнения.
Странный день.
— Гоша, а помнишь, прошлым летом: мы должны были тетю Надю встретить на вокзале — и не поехали, потому что по телевизору шла четвертая или пятая серия. А она приехала на такси, и мы сделали вид, что не получили телеграммы.
— Ну и что, — невозмутимо пожал плечами Гошка. — И правильно сделали: и кино досмотрели, и тетя Надя не пропала.
Он ухмыльнулся, вспомнив:
— Бедная тетя Надя все порывалась пойти на почту и получить назад свои деньги.
Люся нехорошо молчала, поеживаясь.
— Почему ты вспомнила? — недовольно насторожился Гоша.
— Не знаю. Наверное, погода. Тоже дождь шел.
— Ну вот, еще и дождь шел, ехать на вокзал... А впрочем, это ведь твоя тетя Надя, а не моя. Я-то при чем? Ты меня как будто обвиняешь, — рассердился Гошка.
— Гоша, поедем домой! — болезненно попросила Люся.
— Да ты что! Думаешь, я вру? — возмутился он. — Выйди на ту сторону к берегу и посмотри, там открытое место.
Ветер шумел по верхушкам, обрывались с веток капли. Многослойные тьмы туч неслись по небу без конца и без края.
Люся остановилась, но Гошка этого не почувствовал, не оглянулся и рассерженно удалялся между деревьев.
Ей захотелось немедленно найти Алину и узнать, в чем состоит любовь и как она выражается, потому что Люся вдруг заподозрила, что не знает этого и никогда не знала. А вдруг их долгое мирное сосуществование с Гошей — вовсе никакая не любовь, а просто они вдвоем — артель по наращиванию благосостояния, а?
Она пошла по лесу наугад и вдруг вспомнила, как после Нового года спросила Алину, какое желание та загадала в новогоднюю полночь, и Алина ответила, что уже три года загадывает одно и то же: не разлюбить.
Что мы делаем! — оторопело подумала Люся и остановилась. И не знала, как быть. Догнать Гошку? Сказать ему: нельзя это, нельзя! Уговорить — пусть отвезет всех домой и больше не трогать Алину, пусть она сохраняет это свое, такое важное. Лучше утонуть в шторм, чем то, что они затеяли сделать с Алиной.
Деревья безучастно стояли вокруг, каждое на своем извечном месте. А она, Люся, была здесь чужая и незваная, и ничто не имело к ней сочувствия. Бог послал сиротливые заросли, мглу и ветер, чтобы ей узнать этот час: сумерки и дождливые травы — как они клонятся к земле. Она быстро пошла, не глядя под ноги. Ей теперь было не до топлива: только бы отогнать эту тоску, прохватившую ее ознобом насквозь.
Вот так живешь, — думала она, — а потом прорежется, как зуб мудрости, такая вот минутка, и не дай бог.
Она вырвалась к берегу, на незнакомое место. На открытом мысу деревья трепало ветром и мотало из стороны в сторону. Гошка прав: настоящий шторм. Неслись непробиваемые тучи, ветром косило кусты.
И вдруг последнее солнце пробилось в прореху неба, тучи взорвались и закишели белым огнем, бока волн и мокрые коряги на песке яростно осветились, все дрожало, извергалось, деревья метались и расхлестывали пламя солнца, а столбы света нерушимо упирались в берег: свадьба жизни и смерти, а на песке, на коряге сидела, сползая, Алина, то закрывая лицо руками, то отнимая их, и, захлебываясь, плача, она дико повторяла: «Ну иди же сюда, я здесь, я с тобой, я с тобой», и шторм глушил ее голос, а там, куда она обращалась в таком страшном изнеможении, чайка тревожно топталась на вывороченном пне, топорщась белыми перьями.
Окаянное, окаянное место.
Все-таки ночь они провели благополучно. И Алина ничего, приплелась в темноте к костру, а ведь Люся думала: ну все, сейчас она утопится в этой пучине, чтобы потом тоже летать, и пусть, думала, может, ей так лучше будет. Лучше,